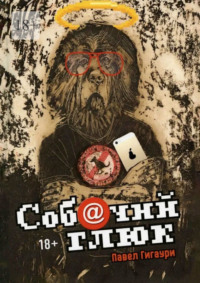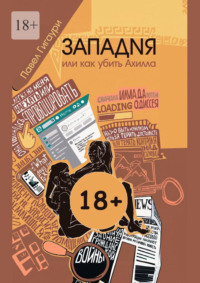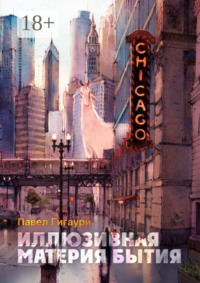Полная версия
Тридцать три жизни
– Точно. Времени у тебя, Фрумкин, не осталось, – согласился Петр Яковлевич. – У меня времени полно.
Фрумкин замер. Что это? Может, он и правда сумасшедший? Можно было бы согласиться с этим, и так даже было бы легче. Непонятно, почему, но легче. Но Лацис?
– Я тебе так скажу, гнида: знание будущего не освобождает от уголовной ответственности за шпионство и вредительство. Кто слил тебе информацию про Лациса? Говори, не заставляй меня прибегать к крайним мерам. Скажешь честно – умрешь не больно. Будешь артачиться – умирать будешь долго.
– Тот, кто, как ты выразился, сливает мне информацию, далеко. Ты не достанешь его при всем желании. Он тебя достанет.
– Кто это? – крикнул Фрумкин, изнемогая от ненависти и нетерпенья.
– Это шестикрылый серафим, – спокойно ответил Чаадаев и, чуть наклонившись вперед, развел руки в стороны, окровавленными ладонями с широко растопыренными пальцами вперед, как бы показывая расправленные крылья.
– Значить, умирать будешь медленно и не по-доброму, – зловеще прохрипел Фрумкин, наклонился к тумбочке стола и начал выдвигать ящики один за одним.
– Может, и медленно, но умру я после тебя, – с явной издевкой сказал Петр Яковлевич. – Таково будущее. И изменить его мы не можем.
Фрумкин перестал выдвигать ящики стола, посмотрел на Чаадаева в упор, прищурился, а потом засмеялся.
– А вот и ошибаешься! Мы его еще как можем изменить! – он, не отрывая взгляда от арестованного, достал револьвер из кобуры. – А вот хер тебе! Я тебя прямо сейчас здесь пристрелю – и все! Кранты тебе и всем твоим пророчествам! Ха-ха! Идиот! – он направил револьвер на грудь Чаадаева. Тот сидел, не шелохнувшись, глядя в глаза Фрумкина.
Ноготь пальца на курке начал белеть от нарастающего напряжения, как вдруг дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошли три человека в форме НКВД.
От неожиданности Фрумкин повернулся к входящим всем телом.
– Гражд… У него револьвер! – раздался крик. – Стреляй!
Раздались хлопки пистолетных выстрелов, которые в закрытом пространстве кабинета гиперболизировались в артиллерийскую канонаду, ударив по ушам присутствующих физически ощутимыми звуковыми волнами.
Попавшие в тело Фрумкина пули столкнули его со стула, броском ударили о несгораемый шкаф, стоящий рядом со столом, в углу, и оставили сползать по стенке сейфа вниз. Тело осело на пол, а голова осталась на железной стенке несгораемого шкафа, прижавшись подбородком к груди.
Петр Яковлевич посмотрел на внезапно мертвого Фрумкина: «В людях все-таки есть неискоренимый идиотизм. Откуда он только берется?»
Комната мгновенно заполнилась людьми в форме, прибежавшими на звуки пальбы. Среди них был хозяин кабинета, Василий Петрович:
– Что тут произошло? – мягко спросил он, ни к кому в частности не обращаясь, а потом добавил: – Это мой кабинет.
Старший из троих ворвавшихся в комнату оценивающе глянул на младшего следователя: мол, что за птица? Но решил не портить отношения в следственном отделе – мало ли что?
– Пришли арестовывать вот этого врага народа, а он на нас с револьвером, понимаешь! Хороши бы мы были, если бы он хлопнул даже одного из нас, – недоумевая, сказал старший из прибывших, а потом громко обратился ко всем находящимся в комнате: – Товарищи, продолжайте работу. Все под контролем. Этот враг народа уже не опасен, он нейтрализован. Идите, продолжайте работу!
Люди в военной форме стали медленно, толкаясь у дверей, нехотя расходиться. В конце этой кучки народа, не отводя глаз от мертвого тела, топтался Зиновий Яковлевич Карамыслов, приятель и земляк Фрумкина. Это они еще вчера обсуждали арест Лациса, прикидывали, откуда подследственный мог знать об аресте и что с ним теперь сделать. И вот теперь Фрумкин лежит с полуоткрытыми остекленевшими глазами, с прижатым к груди подбородком, упершись затылком в большой металлический сейф.
Наконец, все прибежавшие на звук стрельбы вышли из кабинета, и внутри остались трое в фуражках, хозяин кабинета и подследственный.
Старший из группы ареста обратился к подчиненному:
– Митя, давай садись, будешь рапорт писать. Ты из нас самый образованный, и почерк у тебя самый понятный.
– Слушаюсь. А что писать? – отозвался подчиненный, подходя к столу, за которым всего несколько минут назад сидел убиенный Фрумкин. Поднял опрокинутый стул, чуть подвинул ноги убитого и сел. Подвинул к себе чернильницу, перо и стопку чистых листов, лежавших в дальнем углу стола справа.
– Я продиктую, – уверенно сказал старший. – Вы, товарищ следователь, вызовите людей, чтобы забрали тело после осмотра.
Старший осмотрелся, и его взгляд упал на арестованного.
– А ты кто такой будешь?
– Я невинно арестованный, из которого этот враг народа, – Петр Яковлевич кивнул в сторону мертвого тела, – выбивал признание, что я являюсь шпионом Англии, Франции, Америки и Японии, хотя я таковым не являюсь.
Василий Петрович заволновался: «Вот Чадаев завернул! Если Фрумкин враг, то он, понятное дело, делал свое вражье дело, очернял честных граждан. А тогда получается, что он, Василий Петрович, заодно с врагом Фрумкиным, поскольку вел дело… Надо либо придерживаться того, что Чадаев все равно враг, либо сваливать все на мертвого: мертвый ничего уже не скажет, к тому же, гнида он был большая».
– Ну, невинный ты или виноватый, мы разберемся. Но не сейчас. А сейчас, товарищ следователь, отправьте арестованного обратно в камеру, чтобы он не мешал нам работать.
Василий Петрович поспешно вызвал конвой. Конвоир явился быстро, получил приказ отвести арестованного обратно в одиночку и жестом скомандовал Чаадаеву встать и начать двигаться к двери.
Когда тот поднялся, то увидел полную панораму распластавшегося Фрумкина, лежащего с точки зрения живых в нелепой позе. «Большая сволочь он был, – подумал Петр Яковлевич. – И отчего римляне придумали, что о мертвых либо хорошо, либо ничего? Ерунда это! Про мертвых надо говорить правду. Надо всегда говорить правду».
Дверь камеры за Петром Яковлевичем закрылась, издавая звук, поселившийся в застенке с момента, когда застенок появился в человеческой истории. Можно предположить, что эта устрашающая мелодия неволи не менялась со времен Иосифа в египетской тюрьме, Сократа – в афинской, Джордано Бруно – в тюрьме инквизиции и далее везде; антизвук, сопровождающий спуск в антимир. Петр Яковлевич остался один в крошечном помещении без окон длиной метра четыре и шириной метра три.
«А зачем в одиночной камере вторая кровать? Уж не для экономии места! А для того, чтобы можно было делать подсадку», – подумал он с некоторой грустью. Чернил и бумаги не было. Значит, надо заняться медитацией, пока не появится подсадка, если вообще появится. Отправиться скитаться по безграничной Непрерывности, оставив тело заложником данного места и времени.
Чаадаев смотрел на две узкие деревянные лежанки вдоль правой и левой стен, и к нему пришла простая мысль о том, что в прошлый раз он выбрал левую, хотя спать больше любит на правом боку. Однако таким образом он поворачивается спиной к камере, а это неразумно: нужно лечь на правую. Петр Яковлевич сначала сел. Матраца не было – только голые доски. Надо лечь так, чтобы кости своими острыми углами ни во что не упирались – с этого начинается искусство медитации.
Он осторожно лег на спину и начал подбирать такое горизонтальное положение, чтобы уменьшилась боль – от досок лежанки, от выбитых зубов, от дважды разбитых опухших губ. Все эти мелкие боли не складывались в одну большую, нестерпимую, доминирующую боль. Чаадаев знал, что есть острая боль; Боль с большой буквы; боль, выжженная в мозгу каленым железом; боль, которая не отпускает мысли от себя ни на шаг… Тогда не то что медитировать – ни о чем другом думать нельзя; мозги – как собака на коротком поводке, которую нещадно лупят палкой, а она, бедная, извивается в своем ошейнике и никуда не может убежать, не может как-то избежать боли.
Боль – обычная физиология, красный флажок, указывающий, куда не надо заходить, чтобы выжить; большая надпись в мозгу, сделанная языком нервных импульсов: «Сюда не ходи!» И не просто надпись, а еще энергия, чтобы быстро отскочить, отпрыгнуть, отдернуть: все имеет смысл с точки зрения эволюции – это разумное ограничение. И вот человек, используя свой разум, делает боль оружием, превращает себя в раба. Страх боли или желание причинять боль другому существу – суть одно и то же.
Чаадаев растянулся на досках, стараясь сначала напрячь каждую мышцу в теле, а потом расслабить ее. Пришлось поправить складки пиджака на спине, и опять чуть потянуться, и опять расслабить все мышцы, чтобы сила земного тяготения овладела телом и тело стало производным гравитации: никакой внутренней воли для напряжения мышц, только совокупность притяжения вниз и естественное натяжение мышц и сухожилий. Дыхание ровное, неглубокое, само собой разумеющееся, – пульсация в гравитационном поле. Вот Я, Чаадаев Петр Яковлевич – расплывчатое, непонятное даже самому себе, – начинает выделяться из собственного тела. Тело выпало в осадок, оставшись без своего Я, а Я зависло где-то совсем рядом с телом. Боль, голод, холод остались с телом. Теперь надо собрать Я в одну точку – такую, в которой размер уже не может быть определен, в условную точку пространства. Это сделать непросто: все мысли без исключения должны остановиться, все должно замереть, и тогда, без движения, начнется свободное падение в глубину Непрерывности.
Тессера, в которой Петр Яковлевич Чаадаев столкнулся с проблемой счастья
– Петруш, ты проснулся?
– Не знаю. Из такого кошмара выпрыгнул, что до сих пор не могу понять, где я и сплю еще или уже нет…
– Открой глаза, тогда станет легче.
Петр Яковлевич почувствовал шевеление рядом, а потом – дыхание жены на своем лице. Этот легкий ветерок, рожденный в чреве женщины, лежащей совсем близко, сначала вошел в нее со вздохом, потом там, внутри, обогатился теплом тела, ее мыслями, переживаниями, любовью к детям, радостью нового дня и с плавным выдохом проплыл по щеке Чаадаева, передавая ему все свое содержание.
– Лена, какая ты красивая! – тихо отозвался Чаадаев.
– Петруш, ты врунишка! Ты даже глаза не открыл! – тихо засмеялась жена.
– Зачем мне их открывать? Я вижу все своим внутренним оком, – отозвался Чаадаев.
– Хорошо. Ты открывай свои наружные очи, а я, пока индейцы или пираты – или кто они сегодня? – спят, пойду и заварю кофе. И, может быть, мы вдвоем спокойно посидим.
– Ты чрезмерно великодушна и излишне оптимистична. Но попытка не пытка, – сказал Чаадаев и содрогнулся всем телом.
– Ты что, Петруш?
– Ничего. Ленка, если я сейчас открою глаза, то варить кофе ты уже не пойдешь, – предупредил Чаадаев.
– Поняла. Убегаю!
Петр Яковлевич почувствовал движение, отброшенное одеяло – остальное он мог себе представить. Вот его жена легко выпрыгивает из кровати, на ее теле – полупрозрачная ночная рубашка. Она подхватывает лежащий на пуфике рядом с кроватью темно-синий шелковый халат, легко набрасывает его на себя, ловким движением продев руки в рукава, и завязывает пояс на чуть выдающемся животике.
Только тут Чаадаев открыл глаза: он был прав. Жена стояла в халате, готовая выпорхнуть из спальни. «Этот халат очень идет к ее глазам», – подумал он, не различая спросонья цвета глаз жены, а просто зная это, как очевидную истину.
– Все, убегаю. Ты хочешь кофе сюда или придешь сам?
– Сам приду.
Какая она хорошая! Как с ней хорошо!
Чаадаев посмотрел в большое окно напротив кровати: солнечный свет освещал макушки сосен, и в этом свете он увидел облако сосновой пыльцы, проплывающее перед домом: оно, переливаясь и клубясь в лучах желтого солнца, растворялось в окружающем воздухе.
«Сколько всего мы вдыхаем, не ведая о том! Сколько всего входит в нас полезного и вредоносного, а мы совсем не имеем представления об этом. Если это не пахнет, не жжет и не клубится, то это что? Полезно или не смертельно? Вот эта пыльца или частички чего угодно входят в наши легкие, кровь, находят свои рецепторы и активизируют в теле что-то ответственное за молодость, радость, счастье? Или депрессию и отчаяние?
Воздух, которым мы дышим, достается нам вместе с работой, которую мы выбираем, с жильем, которое покупаем или снимаем, с жаждой нового, которая влечет нас по свету. Все, что необходимо нам, как воздух, определяет воздух, которым мы дышим. В этом есть что-то подозрительное, какой-то подвох. Может, воздух определяет в нашей жизни значительно больше, чем мы думаем и знаем? И"воздух родины» подразумевает не фигуральное значение этого выражения, а самое буквальное?
Ладно, пора вставать и пить кофе с Ленкой – Еленой, моей женой, с которой так хорошо и с которой я так счастлив. Да, надо вставать и наслаждаться своим счастьем. Да здравствует сосновая пыльца!»
Чаадаев медленно выбрался из кровати, пошел в туалет. Мочевой пузырь – какая проза, чистая физиология! Но если он перестанет работать и раздуется до немыслимых пределов, то думать о философии не получится. Нормально работающий мочевой пузырь – недооцененное счастье, которое осознаёшь, только когда потеряешь. Да здравствует мочевой пузырь, а вместе с ним – глаза, желудок, задница, легкие, сердце и сосуды, мышцы, кости и зубы! Да, и зубы, потому что когда их выбивают, это создает кучу неудобств.
Чаадаев потрогал языком свои зубы: все они были на месте. Он стряхнул с себя мелкую дрожь, пробежавшую по плечам в разные стороны.
Петр Яковлевич надел халат и отправился к жене. По утрам они пили кофе, сидя в креслах за небольшим столиком у окна друг против друга. Лениво рассматривали новый день и перебрасывались фразами. Часто произвольно брошенные слова складывались в разговор на неожиданную тему, и неважно, о чем он был, но в течение этой беседы оба окончательно просыпались – это и было началом дня.
– Что за кошмар тебе приснился? – спросила Лена полусонно.
– Да так, какой-то бред. НКВД, меня били, хотели, чтобы я отказался от своего года рождения, а я, естественно, не отказывался, и прочая ерунда. Но ощущение в теле такое, как будто меня били взаправду.
– Какой кошмар! Бедный мой Петруша! Твой год рождения преследует тебя даже во сне… Но ты не переживай: сон развеется с кофе, – успокоила его жена.
– Да, конечно. Но главное, что после кошмара я просыпаюсь рядом с тобой. Сосновая пыльца за окном, дом, кофе, наши красивые дети еще спят, мочевой пузырь работает, зубы целы – в общем, счастье. Знаешь, хорошо ощущать счастье сейчас, вот сию минуту – не пропускать его, а потом вдруг вспоминать: «О, вот тогда я был счастлив, а не ценил этого…»
– Знаю, – просто ответила Елена.
– И вот что пришло мне в голову: я тут нашел одного писателя, его фамилия Чехов; у него есть один рассказ… Ты слышала про него?
– Петруш, про Чехова слышали все. Это же Чехов!
– Я не читал, поскольку родился задолго за него, – объяснил Петр Яковлевич.
Елена посмотрела на мужа с тревогой и некоторой грустью. Она не считала его сумасшедшим, разве только чуть-чуть, в самом хорошем смысле этого слова, но не могла понять, почему он настаивает, что родился в 1794 году. Поначалу это создавало множество проблем. Когда он писал дату рождения в анкете, то люди сначала думали, что это описка, и просили его исправить ошибку. А он настаивал, что это не ошибка и он действительно родился в 1794 году. Тогда все начинали считать его сумасшедшим и не брали на работу. В конце концов, знание пяти европейских языков и японского позволили ему найти место переводчика в редакции, где сочли, что дата рождения – вещь относительная. Если человек тихо помешанный, безвредный, но делает хорошие переводы и быстро, то почему бы его не принять? Потом Петр Яковлевич начал писать сам, что позволило воспринять его дату рождения как чудачество художника.
В начале отношений Елену нервировала странная дата рождения: муж и так был старше, но как человек – абсолютно адекватен. Она искренне пыталась во всем разобраться, слушала о Непрерывности, Синхронности, шестикрылом серафиме, но однажды попросила Петра Яковлевича встретиться с психиатром. Это кончилось плохо: психиатр после встречи Петром Яковлевичем попал в сумасшедший дом с временным расстройством психики. После этого Елена отдалась любви без каких-то формальностей вроде даты рождения: есть вещи, с которыми надо просто смириться и жить, тем более что они ни на что не влияют. И она стала счастливой женщиной с мужем и двумя детьми.
– И что Чехов? – спросила она.
– Я прочитал один его рассказ, называется «Крыжовник». Помнишь? – многозначительно спросил Чаадаев.
– Да, помню, – спокойно ответила Елена, – только не очень понимаю, при чем здесь «Крыжовник».
– Это к разговору о счастье. Я проснулся счастливым и вспомнил этот рассказ.
– Я его недостаточно хорошо помню, чтобы понять ход твоих мыслей, – честно призналась жена. – Объясни.
– Ход моих мыслей прост. Там, в «Крыжовнике», главный герой говорит, что в жизни есть более важные и великие вещи, чем счастье. Правда, не говорит, какие. Что жить надо для великого. Мысль интересная, но очень абстрактная.
– И?.. – протянула жена.
– Но это еще не все. Он говорит, что когда видит семью за столом под абажуром, то у него что-то там происходит. Но главное – ему хотелось бы поставить у двери каждого счастливца человека с молоточком, чтобы он напоминал счастливым о несчастных. И это меня окончательно задело.
– Чем? Молоточком? – с явным лукавством просила жена.
– Вот любопытный у меня возник вопрос, – не обращая внимания на реплику жены, продолжил Петр Яковлевич: – Что он хотел сделать с несчастными? Логично было бы подумать, что ответ – сделать их счастливыми. Осчастливить несчастных – хорошая идея. Но если следовать логике автора, то счастье не так важно. К тому же, счастливые люди вызывают у него раздражение: он хочет приставить к ним надсмотрщика с молотком, чтобы довести их до полного сумасшествия постоянным стуком в дверь. А еще лучше – следовать российской привычке «звать всех к топору» и приставить к счастливым людям человека с топором. Только счастливчик вылез из своей уютной норки – его хрясь топором! Ведь от этих счастливых людей все беды и все зло в мире!
– О Боже, что ты несешь, Петруша! – засмеялась Елена.
– Все логично. Вот сейчас проснутся два вертихвоста и поднимут дым коромыслом, заполнят весь дом писком и криком, а мы будем смотреть на них, умиляться и пускать слюни. А чего мы желаем им в жизни? Счастья! А что такое «счастье»? Об этом можно говорить до бесконечности, но счастливый человек знает, что счастлив, а несчастливый знает, что несчастлив. Что плохого в том, что в мире было бы больше счастливых людей?
– Конечно, это было бы хорошо, – согласилась Елена, – но насильно осчастливить нельзя. Человек должен сам найти свое счастье.
– Абсолютно с тобой согласен. И говоря о том, чтобы сделать кого-то счастливым… Скажи мне, если человек несчастен, но хочет сделать счастливыми других, это у него получится? Если человек никогда не испытывал простого человеческого счастья, а при этом ввязался, скажем, в какую-то революцию, может исход этой революции быть счастливым?
– Думаю, нет. Но счастливые люди не хотят революций: они хотят только своего счастья – и больше ничего. Об этом, я думаю, и говорил Чехов, – рассудительно сказала Елена, отпивая кофе.
– Может быть. Но это их право – быть счастливым. У каждого человека должен быть шанс стать счастливым. Вот! А что для этого нужно? Свобода!
– Приехали! А о свободе можно говорить дольше, чем о счастье, – подытожила Елена.
– Это правда, – согласился Чаадаев. Он заглянул в свою кружку – она была пуста. – Еще кофе есть?
– Да, давай принесу.
– Я могу сам.
– Давай сюда кружку! – потребовала Елена.
Чаадаев покорно протянул ее жене, и та пошла к кофеварке. Петр Яковлевич смотрел ей вслед с восхищением.
Принимая чашку с кофе, сказал:
– В моменты, когда я тебя не вижу, я не помню точно, какая ты красивая. А потом, когда вижу опять, удивляюсь твоей красоте.
– Петруш, – голос Елены задрожал, – ты иногда такие вещи говоришь и застаешь меня врасплох, а у меня слезы наворачиваются, хочется заплакать. Просто так, от счастья.
– Не плачь, а то еще молотком по голове получишь, – спокойно отреагировал муж.
– Что сейчас будешь делать?
– Подготовлю перевод с японского, авторизированный. Давно хотелось.
Перевод легенды о Черном самурае Ясуке
Легенды рождаются из реальных историй. Сначала истории теряют текучесть, твердеют, выпадают из времени, а потом их живая ткань исчезает вовсе, оставляя после себя полую форму. Опустевшая форма может наполняться другими реальными историями, которые умещаются в полость легенды. Там, в этой форме, истории перемешиваются, проходят изменения и затвердевают в другом образе. И вот появляется новая легенда, которая есть смешение правды и времени. Правда, рожденная в одном времени, оказавшись в другом, может потерять свои свойства.
Жила-была в Японии красивая девушка, и в нее влюбился демон. В целом, типичная ситуация для молодых привлекательных девушек. В «Тысяче и одной ночи» демон посадил девушку в сундук и держал ее в там, тем не менее пленница умудрялась изменять ему прямо перед его носом, как только он выпускал ее из сундука и терял бдительность. Так обстояли дела в арабском мире. В Японии хитрый демон поселился в девичьем влагалище и кусал каждого, кто пытался туда проникнуть. Бедная девушка не могла выйти замуж. После нескольких неудачных попыток, когда женихи выбегали из спальни с фонтаном крови, бьющим из откушенного члена, молодые люди стали сторониться бедной девушки. Ситуация казалась безвыходной. И тогда несчастная обратилась за помощью к черному кузнецу, который подарил девушке железный член, о который злобный демон сломал зубы.
Здесь кончается легенда, а реальная история начинается в 1579 году, когда иезуитский миссионер Алехандро Валиньяно прибыл в Японию с черным слугой, имя которого было Ясука. Появление иезуитских миссионеров не произвело никакого эффекта в тогдашнем японском обществе: саке пьют, но женщинами не интересуются, говорят много и непонятно, глаза круглые, кожа бледная; а вот их слуга – совсем другое дело. Он был по виду человек, но совсем черный. Черный, как чернила или сажа. Когда об этом доложили местному правителю Оде Набумаге, тот приказал призвать миссионеров и слугу в свой дворец.
Ода Набумаге рассматривал слугу не отрывая глаз и все не мог понять, правда ли тот черный или просто покрашен какой-то специальной краской. А если покрашен, то зачем? С какой целью? Об этом Ода Набумаге напрямую спросил иезуитов. Те ответили, что чернота кожи – естественное состояние этого человека: так повелось по воле Господа, после вселенского потопа, что черные люди произошли от сына Ноя Хама.
Ода Набумаге внимательно выслушал иезуитов и ничего не понял, поэтому вежливо, но очень настойчиво попросил, чтобы черный слуга разделся, чтобы осмотреть его с ног до головы. Заодно он пригласил служанок с кувшинами теплой воды и разными маслами, чтобы попробовать смыть краску, если таковая имеется на коже слуги.
Ясука спокойно разделся и предстал в полном естестве перед Одой Набумаге и его придворными. Но когда правитель, придворные и даже молодые женщины из прислуги увидели Ясуку раздетым, никто не мог удержаться от крика ужаса и восхищения. Все дело в том, что от природы японские мужчины обладают маленькими половыми членами, и это нисколько не мешает нации размножаться и процветать. Но когда все присутствующие японцы увидели размер детородного органа Ясуки, это привело их в невообразимое возбуждение. И смятение еще больше усилилось, когда служанки прямо в зале для приема по приказу Оды Набумаге стали поливать Ясуку теплой водой и тереть разными маслами, а делали они это с трепетом и восхищением. От их прикосновений детородный орган Ясуки пришел в возбужденное состояние. Предела удивлению не было! Ода Набумаге тут же удалился на совещание со своими советниками, чтобы обсудить увиденное.
Советники разошлись во мнениях о происхождении феномена: одни утверждали, что Ясука имеет божественное происхождение, а другие опасались, что он может быть из демонов; но все сошлись в том, что хорошо бы было иметь такой феномен при дворе – как символ могущества правителя.
Иезуитам тут же дали понять, что правитель хочет иметь Ясуку на службе, а взамен они получат покровительство и свободное передвижение по подвластной территории. Иезуиты радостно согласились и отбыли в путешествие по Японии, а Ясука перешел на службу к Оде Набумаге. Он получил самурайские одеяния, деньги, ему предоставили учителя японского языка. Сам Ясука потребовал, чтобы ему присылали женщин для поддержания боевой формы его организма. Ода Набумаге согласился это делать, не видя в том никакого вреда, но тем самым обрек себя на трагический финал.