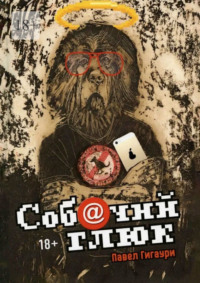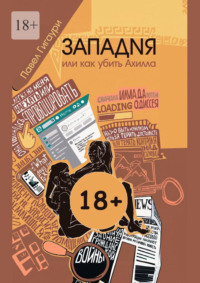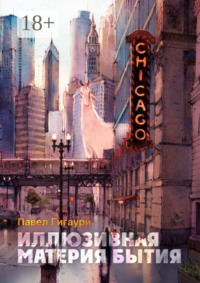Полная версия
Тридцать три жизни
– Что слышал! – неожиданно грубо ответил подследственный, вытирая все еще сочащуюся кровь с лица.
Старший следователь резко повернулся к подчиненному:
– Он сумасшедший. Настоящий умалишенный! Где ты его откопал?
– Мне тоже так показалось, – с готовностью ответил подчиненный, – но трудно разобраться: иногда говорит, как нормальный человек, а иногда заговаривается. Может, хорошо замаскировавшийся шпион прикидывается умалишенным? Может, экспертизу запросить?
«Вот сука!» – подумал Фрумкин про подчиненного.
– Да какой тут шпион? Двинутый на всю голову! Давай его в одиночку, а там разберемся, – как бы небрежно сказал старший следователь. – Заканчивай – и в камеру его. Помори голодом чуть-чуть. Говорят, помогает при душевных болезнях.
– Слушаюсь!
Фрумкин, нарочито не торопясь, развернулся и пошел к двери. Потом остановился, развернулся и пальцем поманил подчиненного. Тот с готовностью подошел к начальнику. Начальник жестом показал, чтобы тот наклонил ухо.
– Василий Петрович, ты про его бред не болтай, а то за клевету отправят тебя хрен знает куда, а заодно – и меня. Понял?
– Так точно, Арон Михайлович, – шепотом ответил Василий Петрович, а про себя подумал: «Похоже, арестант в точку попал: зассал Ароша Моисеевич!»
– Фрумкин! – вдруг раздался крик арестованного. – Лациса послезавтра арестуют!
Фрумкин и подчиненный переглянулись. Старший покрутил пальцем у виска – мол, совсем нездоров на голову – и открыл дверь. Он вышел в коридор, думая, стоит ли писать рапорт на Лациса, что он враг народа, или не стоит. Ведь если он напишет рапорт, и Лациса арестуют, то получится, что этот придурок был прав, предсказав арест. «Может, стоит подождать до послезавтра? А вдруг и вправду Лациса арестуют послезавтра? Тогда что? И откуда арестованный знает мою фамилию?»
А Василий Петрович вернулся к своему столу и, с облегчением вздохнув, сел в свое кресло. Гроза Фрумкина миновала, но на руках у него осталось множество вопросов и неуверенность в завтрашнем дне. Кто этот хер с разбитым ртом, который сейчас сидит перед ним и выдает такие финтили, что даже Фрумкин откатил? Надо с ним осторожно…
– Воды хо… – сначала он хотел сказать «хочешь», но исправился на «хотите».
– Да, – однозначно ответил Чаадаев.
Василий Петрович открыл дверцу письменного стола и достал оттуда граненый графин и стакан. Вынул пробку и размерено наполнил две трети стакана водой, подвинул его в сторону Петра Яковлевича и так же, не торопясь, закрыл графин.
Петр Яковлевич привстал с табуретки, взял стакан, сел. Глядя на следователя, поднес стакан к губам, немного отпил, прополоскал рот и потом проглотил воду. Затем так же, не торопясь, выпил оставшееся и поставил стакан на стол.
– Спасибо, – поблагодарил Петр Яковлевич.
– На здоровье! Которое осталось или останется, если вообще останется, – мрачно отозвался Василий Петрович. – Как нам быть с датой рождения? Фрумкин не отстанет.
– Мне кажется, дата смерти должна волновать людей больше, чем дата рождения. Мне сказали, что я родился в 1794 году, хотя я сам этого не помню. Как и вы не помните, когда родились. Вы доверяете бумажке, выписанной приходским священником, который мог перепутать от, так скажем, усталости, и вы пойдете по жизни с перепутанной датой рождения, даже не осознавая этого. Ведь, по большому счету, когда вы родились, – не имеет значения, раз уж родились и живете. Многие дикие и полудикие племена не имеют летоисчисления – и ничего, живут себе. А вот дата смерти значительно более интересна! Она существует, эта дата, но нам неизвестна. Как вы думаете, мы жили бы по-другому, если бы знали дату своей смерти? А ведь она наступит: минута, день, месяц, год – и все, мы исчезнем с этой земли. Почему мы боимся смерти?
– Я не знаю, почему вы боитесь смерти, – грубо перебил его следователь, – но бояться вам следует. Вы в каком году родились? Ответьте просто и точно!
– Я не знаю. Я же сказал, что не помню своего рождения, но написано, что в 1794, – просто ответил Петр Яковлевич. – Посмотрите в записях.
– Написать можно что угодно: бумага все стерпит, – так же грубо бросил следователь.
– Это вы о признаниях всех англо-французско-японских шпионов, написанных в этом кабинете? – вдруг отозвался подследственный.
Василию Петровичу очень захотелось его ударить, но он сдержался и только уставился пристальным взглядом в глаза Петра Яковлевича. Следователь видел много разных выражений в глазах подследственных: от неприкрытой ненависти до мольбы о пощаде; он видел сломанные, опустошенные глаза, глаза, наполненные болью… Подавляющее большинство отводило глаза в сторону – слишком неравная схватка. Эти же глаза были спокойны: в них была грусть, но не было страха. Они уверенно смотрели на него, как будто не были под следствием.
– Не борзей, слышь? – совсем угрожающе прохрипел следователь. Если бы кто-то другой сказал ему такое, то он уже метелил бы его, как ссаный матрац, но сейчас его что-то останавливало.
– Это несправедливо, Василий Петрович, что я борзею. Это не от храбрости. Так получилось, что я знаю, чем все кончится, поэтому не боюсь. Человек боится неизвестности, как со страхом смерти. А когда знаешь, куда все идет, а главное – когда, то страха особенно нет. Я знаю, что Лациса арестуют по доносу Фрумкина, а потом – и самого Фрумкина, а потом и меня расстреляют, а потом – и вашего наркома тоже.
Глаза Василия Петровича от страха перестали видеть и, как страус, зарылись внутрь мозга. «Что он несет? Если кто-то услышит? – и чуть позже: – А вдруг…»
И тут неожиданно для себя он спросил:
– Если знаешь будущее, то, значит, его можно изменить?
– Вы можете изменить прошлое, которое вы знаете?
– Нет, – не очень уверенно ответил следователь.
– Тогда почему вы думаете, что можно изменить будущее? – очень просто спросил Петр Яковлевич, как будто говорил о чем-то обыденном, как чистка зубов по утрам.
– Значит так! Фрумкин прав: в одиночку до послезавтра! А там разберемся, – внутри Василия Петровича потрясывало: то ли от страха, то ли от потери чувства реальности, то ли от отсутствия контроля над событиями.
– Да, конечно. Дайте мне бумагу и чернил – я напишу вам что-нибудь: так, для развлечения, – с уже нескрываемой иронией сказал Петр Яковлевич Чаадаев.
– Будут вам бумага и чернила. Пишите о будущем все, что знаете. Понятно? Это задание. Если хотите избежать расстрела.
– Или его приблизить, – в тон ответил подследственный.
– Что его приближать? Он и так не за горами, – успокоил Петра Яковлевича Василий Петрович.
Запись, сделанная Петром Яковлевичем Чаадаевым в одиночной камере тюрьмы НКВД
Никто
Весть о том, что Одиссей приплыл на остров, принес Елене мальчишка, сын одной из служанок. Значит, три корабля, которые вошли в бухту вчера, уже ближе к вечеру, принадлежали ему. Герой Троянской войны, сам хитроумный Одиссей, о котором сложено столько песен, прибыл на остров. Для маленького поселения, в котором жила Елена, это было большое событие. Это было событие и в жизни Елены. После окончания Троянской войны Менелай вернул ее в Спарту, но потом, несколько лет спустя, отправил на этот маленький остров – жить под присмотром местного правителя: старого, безвредного Политеска. Это заключение было комфортным: Елена жила в небольшом домике в горах с живописным видом на бухту, куда не часто заходили корабли торговцев. Спуск к морю по узкой крутой дороге – до бухты, которая была расположена в городе совсем рядом с портом, занимал всего пару часов. Но возвращаться в гору было дольше, поэтому все новости доходили до Елены, как отзвук эха – с задержкой во времени и пространстве, уже потеряв свою силу и свежесть.
Уединенная жизнь среди красоты моря и гор меняла Елену. Ощущение себя как существа из плоти и крови исчезало, словно границы ее тела истончались в окружающем воздухе. Их подтачивал морской бриз, скользивший по нежной коже каждое утро; он уносил частички ее тела, когда она шла на прогулку в горы; их размывала вода в небольшом бассейне, в котором Елена плескалась после прогулки по горам; их закрашивали краски заката, когда она провожала солнце, уходящее куда-то за пределы Ойкумены. Весь окружающий мир растворял контуры Елены, делая ее оболочку все более тонкой и проницаемой. Взамен мир забирал страх и дарил Елене новую силу – способность предчувствовать предстоящие события, видеть их во сне, предвидеть сердцем. Прошлой ночью она видела сон, как гуляла по морю босиком: ноги шли по морской пене вдоль берега, и вдруг из моря прямо к ней приплыл дельфин. Он вынырнул из воды и оказался близко-близко. Елена обняла его и почувствовала, как беспричинное счастье разливается по всему телу, словно выпитое вино. Что-то совсем-совсем забытое. И вот – весть о прибытии Одиссея.
Мальчишка, сын служанки, взахлеб рассказывал о том, как Одиссей сошел с корабля и отправился к дому Политеска, как он выглядит, как ступает, как говорит.
– Рыбак Диоклис его спрашивает: «А ты правда тот самый Одиссей?» А он отвечает – и так серьезно, как по правде: «Не знаю. Который тот и в чем самый? А в остальном я Одиссей, царь Итаки». Тогда Диоклис говорит: «Ну, значит, тот самый!» А Одиссей отвечает: «Любезный, я рад, что вы помогли мне разобраться в себе самом. А то сегодня утром проснулся и не знаю, тот ли я или не тот, это я или вообще не я, самый или нет… А теперь я точно знаю, что я – тот самый».
Елена засмеялась: ох и любит же он людям голову морочить! Конечно, тот самый и совсем не изменился.
Значит, сегодня он проведет весь вечер у Политеска. Тот будет несказанно горд, что Одиссей приехал к нему, и, конечно же, закатит пир. Будут гулять всю ночь. Может, тогда завтра, а может, послезавтра он появится здесь. «А вдруг нет – уедет и так и не появится? Нет, такого не может быть! Такого не может быть… Надо просто ждать. Как тяжело ждать! Ожидание крадет время. А времени уже не осталось. О боги, Одиссей! Как давно это было…»
Но время в ожидании не двигалось: выпав из привычного бытия, оно висело в неподвижном воздухе непроницаемой стеной и вызывало в душе отчаяние бессилия.
Но уже на следующий день появился посланец и притворно-вежливо спросил, может ли его господин, царь Одиссей, нарушить покой царицы Елены и навестить ее в угодный ей час.
Конечно! Царица всегда рада старым друзьям! Она будет ждать его завтра после полудня, к обеду. Обед будет простым и не сможет сравниться с пиром у правителя Политеска, но царица будет несказанно рада видеть друга своей юности.
Ласточка прилетела к своему гнезду под крышей дома, расчертив море у горизонта раздвоенным хвостиком, как циркулем. Цикады от жары надрываются по склонам гор: «Феб, Феб, Феб!» На полу – чуть пожелтевший мрамор с царапинами, глубоко врезавшимися в плоть камня. Муха ползет по краю чаши с медом, хлеб совсем рядом. Море никуда не течет: оно колеблется, впитывает в себя все – свет, тепло, время, людей, корабли… Оно невесомо, оно под небом и завидует ему: то всегда светлее.
Волны, вы где-то там, в самом далеком уголке будущего! Помните: мы вас любили, мы вас любим! Но вам до нас нет дела… Имя – просто звук: мы были, вы будете. Вы пройдете, как прошли мы. Вы уже прошли, пока думали об этом. Слова, тела, буквы, цифры, тоска любви – если оголишь сердце, то не сможешь жить; если закроешь сердце, тоже не сможешь жить. Стремление куда-то, к чему-то лишает настоящего.
Тропинка в горах в полдень. Жара. Солнце выдавливает смолу из деревьев. Дышать вином лучше, чем его пить. Надо выпрямиться, прогнать страх. Хочется подняться над морем и островами – высоко в небо. Хочется вернуться на пепелище, за один день объехать весь мир.
Одиночество, одиночество… У одинокого человека на плечах весь мир, у мира нет предела. Если сжечь ветку, она переродится в дым – погребальный костер. Уход, возвращение, переселение, перемещение – покоя нет, всегда движение. О боги, химеры – обман, иллюзии! Нет настоящего – есть мгновение. Хочется говорить – одиночество…
Полет ласточки. О чем она думает? О чем думает рыба в море? О чем она думает, когда попалась в сеть? Мы так мало знаем! Невыносимая боль и тоска утоляются у горизонта, где небо ложится на море. Там покой – хочется туда. Однажды это случится. Надо терпеть. Или не надо?..
– Госпожа, к вам гость, – сообщила служанка.
Елена вздрогнула и оторвала взгляд от моря. Она помнила, что у Одиссея были зеленые глаза.
– Зови его в дом.
– Слушаюсь, госпожа.
Служанка тихо удалилась. Елена встала со своей мраморной, выстланной ковром лавочки и через маленький уютный дворик пошла в дом. Она не торопилась: теперь торопиться не надо, надо дать служанке время омыть ноги гостю, дать ему собраться с мыслями (хотя Одиссею это вряд ли необходимо – его мысли всегда с ним), совладать со своими чувствами самой. Елена подошла к входу в дом и обернулась к морю: там горизонт. Как туда тянет! Но это все обман – горизонта нет. Почему же туда так тянет?
– Госпожа, куда проводить гостя?
– Проводи меня к нему.
Елена вошла в небольшую комнатку для ожидания. Весь дом небольшой – совсем не дворец, а жилище опальной царицы – без излишеств. Но есть маленький уютный внутренний дворик и главная достопримечательность – портик у самого края слона горы, с которого видны бухта, море и горизонт. Это ее любимое место.
Он стоял посередине комнаты. Она забыла, какой он большой: широкие плечи с мускулами рук, могучая шея, которую не могла прикрыть борода, заметно поредевшие седые волосы, морщины вокруг век… Глаза смотрели прямо на нее. Она не ожидала увидеть их так ясно, такими живыми и так близко, а они своей зеленью бесцеремонно влились внутрь ее глаз, разливая тепло и радость по всему телу.
– Здравствуй, царица, – ровным голосом сказал Одиссей и улыбнулся.
– Здравствуй, Одиссей, – сдерживаясь, ответила Елена.
В воздухе повисла пауза, и Одиссей прервал ее:
– Я очень благодарен, что ты позволила мне навестить тебя.
– Ты неисправим! – засмеялась Елена: ей вдруг стало так легко и весело. – Ты совсем не изменился, ты все тот же – осторожный, недоверчивый, скрытный! Как я могла отказаться? О чем ты говоришь?
– Я стараюсь принимать вещи такими, как есть, после того как узнаю, какие они, а не какими кажутся, – с извиняющейся усмешкой ответил Одиссей, а потом добавил, глядя Елене в глаза: – Как я мог побывать здесь и не посетить тебя? Сколько мы не виделись?
– Мы не виделись целую жизнь. Ты смелый человек, Одиссей! Пойдем присядем, я прикажу, чтобы принесли вина, воды, фиников и накрыли обед. Мы сможем поговорить обо всем спокойно, насколько позволит время.
Елена прошла через дом, вышла во дворик, к портику. Они сели на лавку, устланную ковром, на которой Елена только что сидела в полном одиночестве, глядя на море.
– Это мое любимое место. Мне нравится сидеть здесь и смотреть на горизонт: там, за этой линией, Троя, Спарта, Итака… Где-то там мои родители и детство. Сколько раз я представляла, как из-за этого горизонта выплывут черные корабли с Итаки и с ними – ты! И вот ты сидишь передо мной: живой, не тень – настоящий, из плоти и крови, изменился – и не изменился. Расскажи мне, все расскажи! Как прошла жизнь после окончания войны? Как поживает моя сестра Пенелопа, твоя верная супруга, здорова ли? Расскажи все.
– Твоя сестра, моя жена Пенелопа, в добром здравии, слава богам. Занята домом – обычные семейные заботы. Она очень нервничает, когда я куда-то уплываю: все боится, что опять пропаду на двадцать лет. А почему я смелый человек? Ты сказала: «Ты смелый человек, Одиссей». Никто и никогда не называл меня трусом.
– Смелый, что приехал увидеть меня.
– Я не понимаю, в чем моя смелость. Я не вижу никакой опасности. Мой меч всегда со мной. Хотя, конечно, я не так стремителен в моем возрасте, но уверен, что еще достаточно владею мечом, чтобы защитить свою честь.
– Речь как раз о возрасте. После войны прошло тридцать лет – это очень много. Для женщины это больше, чем для мужчины. Ты не испугался увидеть вместо Елены, которую прозвали Прекрасной и из-за которой началась война, – хотя война началась не из-за меня, а из-за торговых путей, которые были нужны грекам, – стареющую или уже состарившуюся женщину. Я не поверю, что ты не думал об этом. Ты умный и проницательный человек – и все равно приехал. Я очень рада тебя видеть!
– Я рад, что ты считаешь меня разумным человеком. И если бы я сказал тебе, что ты совсем не изменилась, ты не поверила бы мне и сочла, совершенно справедливо, что я неискренен. Я скажу тебе одну вещь: ты не изменилась. Нет, не внешне. Внешне мы оба изменились, я чувствую это на себе самом. Твоя красота не изменилась. Когда слушаешь поэта, читающего свои стихи под звуки струн, то у него может быть старческий голос, но дивные стихи уносят душу далеко-далеко. Красота стихов не зависит от голоса. Так и твоя красота не зависит от времени… Корабль может прийти в негодность, сгнить, но рисунок, по которому он был построен, остается. Мы уйдем, а легенда о твоей красоте будет жить среди людей. Только они уже не смогут тебя увидеть, а я могу.
Елена грустно смотрела на Одиссея. Ей хотелось ему ответить, но она не знала, что. Ее спасли слуги, которые принесли обед.
– Давай пересядем и начнем наш обед, а может, и ужин, – предложила Елена. – И можешь отстегнуть свой меч: я не думаю, что здесь тебе что-то угрожает.
– Не от каждой опасности может защитить меч, – сказал Одиссей, расстегивая ремень, обхватывающий его узкую талию. Он аккуратно положил оружие на лавку, на которой они только что сидели. – Я ничего не боюсь. Но не хочется умирать на чужбине. Хочется умереть дома, – очень спокойно сказал царь Итаки.
– Истории о твоих скитаниях обошли все острова и земли. И если даже часть из того, что говорят о тебе, правда, то неудивительно, что ты хочешь умереть дома, – смеясь, сказала Елена. – Скажи, а Пенелопа знает о Калипсо?
– Это было сразу же отнесено в разряд полного вранья, как и Циклопы. Я сказал, что поэты придумали их для пущей увлекательности. Не мог же я после того, как столько раз смотрел в глаза собственной смерти, умереть дома, зарезанный собственной женой? Это был бы плохой конец моих скитаний, – так же смеясь, ответил Одиссей.
Слуги принесли чаши с бараньим бульоном, блюдо с мясом, вино и тихо удалились.
Елена и Одиссей неторопливо ели, делая вид, что в данный момент еда имеет какое-то значение. Такой же неторопливый разговор, поддерживаемый случайно всплывающими из памяти фразами, именами, местами, событиями.
Стемнело. Слуги принесли факелы и укрепили их на колоннах портика. Убрали недоеденное мясо, подали вино, воду, орехи, мед.
После ухода слуг воцарилась тишина, и, как будто маясь от пустоты, тени предметов колебались в свете пламени. Никто не торопился нарушать паузу в разговоре: Одиссей и Елена сидели, молча глядя друг другу в глаза. И чем дольше они сидели, не говоря ни слова, тем сильнее кристаллизовалась тишина над столиком: она обрела свойство непроницаемости, и все вечерние звуки гор отскакивали от кристаллика тишины, как от невидимой стены.
Одиссей молчал.
– Когда ты уплываешь? – наконец спросила Елена.
– На рассвете.
– Тебе скоро идти. Надо отдохнуть перед дорогой, а спуск займет пару часов – темно и толком непонятно, куда двигаться.
– У меня возница местный, он знает дорогу. Сегодня был хороший вечер.
– Да. Жалко, что день так быстро пролетел.
– Да, пора.
Одиссей медленно встал, подошел к лавке и взял свой меч. Так же неторопливо опоясался ремнем и застегнул бляшку замка. Елена встала вслед за Одиссеем, подождала, пока он застегнет ремень с мечом, и двинулась к дому.
И вот они стояли перед выходом. В свете масляной лампы их глаза почти не были видны. Пришла пора прощаться.
– Мы уже больше никогда не увидимся, – сказал Одиссей.
– Одиссей, ты можешь ответить мне на один вопрос? – осторожно спросила Елена.
– Попробую, – отозвался Одиссей.
Елена, чуть помедлив, осторожно начала:
– Тогда, много лет назад, когда ты приехал в дом отца, чтобы выбрать себе жену, – Елена сделала короткую паузу, – почему ты выбрал сестру, а не меня? Мне казалось, я чувствовала, что понравилась тебе. А ты выбрал сестру.
Одиссей чуть наклонил голову набок, улыбнулся, с доброй усмешкой сказал:
– Ты была такая красивая, что тогда я понял: из-за твоей красоты может произойти много бед. И самое смешное, что я оказался прав: почти десять лет войны, потом десять лет скитаний – вся жизнь кувырком прошла, самые лучшие годы. Но что было, то было.
Елена подошла к Одиссею совсем близко, положила руки на его плечи и заглянула в глаза.
– Мы уже больше не увидимся, наше время истекает, и кто знает, как там, в царстве теней… Но я хочу, чтобы ты знал, что тогда, много-много лет назад, в отцовском доме, я ничего не хотела в жизни больше, чем быть твоей женой и родить тебе множество детей. И если бы это исполнилось, то я ни за что на свете не убежала бы от тебя с Парисом, а сидела бы дома, занималась хозяйством и была бы самой счастливой женщиной. И не было бы никакой войны, смертей, скитаний, а была бы обычная счастливая жизнь. Но все обернулось совсем не так… Кто виноват, что так обернулось? Кто?
Улыбка сошла с лица Одиссея. Он положил свои тяжелые руки на спину Елены и нежно притянул ее к себе, прижался губами к ее волосам и сделал глубокий вдох. Потом так же нежно отстранил Елену, подошел к двери, открыл ее и обернулся. В свете лампы, горящей у входа, Елена четко разглядела лицо Одиссея: оно казалось моложе. Он чуть качнул головой, словно отвечая каким-то своим мыслям. А потом с грустной усмешкой сказал:
– Во всем виноват… Никто, – и скрылся в проеме двери.
Петр Яковлевич сидел на стуле перед младшим следователем Василием Петровичем, смотрел на читающего сотрудника НКВД и ждал реакции на свой текст. Ждать долго не пришлось.
– Ты что тут написал? О чем это? Что за херня такая? Какой Одиссей? Какая Елена? Ты что, совсем с ума сбрендил? – Потом остановился на секунду, задумался и сам себе ответил: – Я забыл, что под дурака работаешь. Я тебе приказал писать о будущем, а ты?
– Я писал о будущем, но как бы из прошлого, – спокойно ответил Петр Яковлевич.
– Не морочь мне голову, – спокойно попросил следователь, а потом заговорщицки добавил: – Лациса арестовали.
– Сейчас Фрумкин придет, меня пытать начнет, – как-то равнодушно ответил Чаадаев.
Следователь растерянно смотрел на подследственного. Повисла пауза, которая была прервана резко распахнувшейся дверью, из-за которой, как воздух из лопнувшей шины, влетел Фрумкин.
– Оставь нас вдвоем, – вместо приветствия выпалил старший следователь, обращаясь к подчиненному.
– Слушаюсь, – ответил Василий Петрович и торопливо вышел из кабинета, плотно закрыв за собой дверь.
– Значить, так! Бистро, без придурства! Откуда у тебя информация об аресте Лациса? Бистро! Не юли! Начнешь тюлю гнать – сразу в рожу получишь! Понял? Говори!
Петр Яковлевич поднял глаза на взволнованного следователя:
– Чем правдивее я вам отвечу, тем меньше вы мне поверите, – спокойным голосом ответил арестованный.
– Говори, не испытывай моего терпения!
– Хорошо. Начнем с того, что я знаю будущее.
Петр Яковлевич не успел закончить, как Фрумкин резко ударил кулаком ему в лицо. Удар пришелся в скулу. Петр Яковлевич качнулся на табуретке, но не упал.
– Ты тварь! Я тебе сейчас все глаза вылуплю, раз уже зубы выбил! Прекрати дуриком прикидываться! Говори, откуда информация! – проорал Фрумкин и опять ударил подследственного по уже разбитым несколько дней назад в этом же кабинете губам. Голова Чаадаева резко качнулась назад и мгновенно вернулась в прежнее положение.
Кровь струйками полилась изо рта на подбородок. Петр Яковлевич стал вытирать ее ладонями обеих рук.
– Я же сказал: я знаю будущее, – совершенно без колебания в голосе ответил Чаадаев.
Этот холодный голос остудил пыл Фрумкина, который был готов уже ударить опять. Вместо удара он посмотрел на говорящего, пытаясь понять, какую игру ведет подследственный. Откуда такое спокойствие? В чем весь подвох, где цель всего этого? Если он знает, когда арестуют видного военного, то почему же сам сидит и сидит – уже минимум два месяца с тех пор, как к нему поступила информация о дате ареста? Предположим, он знал, что за Лацисом придут, еще до собственного ареста. Но как он узнал дату ареста? Такие вещи за два месяца неизвестны!
– Значить, так! Я сейчас достану из этого стола волшебную деревянную палочку с очень удобной резиновой ручечкой, чтобы в руке не звенело, когда я буду бить тебя по голове. И или ты мне скажешь, кто сливает тебе информацию и зачем, или я превращу твою голову в разбитую яичную скорлупу. После этого люди не живут! Либо ты, контра, начинаешь говорить ясно, четко и по делу, либо тебе все! Понял? Времени у нас не осталось! – прокричал Фрумкин.