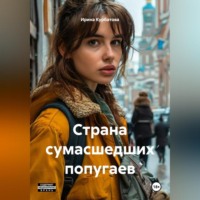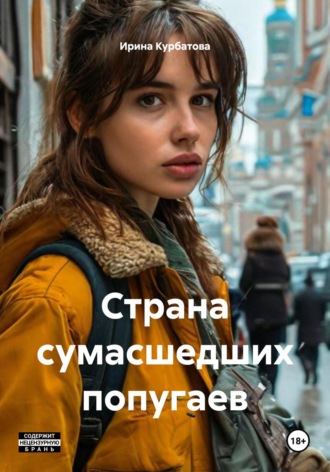
Полная версия
Страна сумасшедших попугаев
Антонина возвращается обратно,–Сволочь!
–Кто?
–Супружник ейный! Я этого паразита со школы знаю. Выродок,–кипятится она.
–А с Машкой ты тоже в школе училась?
–Нет, но я ее честно обо всем предупредила. Куда там! Люблю–не могу! Это с другими он такой, а со мной так не будет. Я ему помогу, и он исправится…Тьфу!… Ну, была бы из профессорской семьи, тогда этот наив еще понять можно было, у самой же отец запойный. Правда, Палыч тихий. Он по формуле живет: отработал–выпил–упал, а этот…
К столику незаметно подходит Нина и кладет на стол большую матерчатую сумку,–На, пользуйся, по–родственному. Да, там Серафима вещи принесла. Заберешь?–увлеченная окрошкой Антонина согласно кивает, Нина с довольной улыбкой кивает в ответ,–Ну, кушайте, кушайте…,–и уходит, вернее уплывает.
–А Нина тебе кто?
–Сноха бывшая. Хотя не совсем так. Она вдова моего брата, его зарезали лет двадцать пять тому назад, может больше. Я плохо помню, маленькая была. Он старший, я младшая, а между нами еще четыре пацана. Нинке тогда всего девятнадцать было, сирота, она потом еще долго к нам захаживала, мать моя, покойница, ее очень жалела и дед с бабкой тоже. У нее уже другая семья, давно… Дочка старшая не намного моложе нас, в педагогическом учится и мальчишка ничего.
С окрошкой управились быстро. Антонина составила посуду на поднос и встала, но ее опередила женщина в синим застиранном халате и клеёнчатом фартуке. Одной рукой она забрала поднос, а другой положила на стол, упакованный в газету сверток,–Вот. Моя выросла, не пропадать же добру. Тефтели будете? Или может рыбу?
–Не, нам бы попить, только не чай, жарко,–Антонина шумно вздыхает и вопросительно смотрит в мою сторону.
–Жарко,–поддакиваю я и киваю на сверток,–А это кому?
–Мироновой, вернее дочке ее.
–У Ленки дочка есть?
–Ага. Пять лет малявке. Растет, то одно надо, то другое, а на Ленкину зарплату старшего библиотекаря не разбежишься, даже если материну пенсию добавить.
–А отец у девочки где?
–А отец у девочке в полном поряде! «Шутник» ее отец!
–То есть?!
– Лешка Пашутин.
–Так он, вроде, женат…
–Не вроде, а точно женат, три года уже, хорошо женат, на дочери замминистра обороны.
–А как же…
–А никак!–Тонька безнадежно вздохнула,–История прямо–таки сказочная… Они оба из Одинцова, можно сказать, в одном дворе выросли. Дружили, то да се… Правда, Лешка в «Суворовское» поступил в Москве, а Ленка в Одинцове осталась, но все равно увольнительные, каникулы, так и крутилось, в общем, на выпуске из «Суворовского» Ленка была уже официально его девушкой, потом Пашутин в высшее военное поступил, потом в академию, ну, а Ленка при нем… «Шутник» мужик с головой. Он из простой семьи, отец электрик, мать лифтерша, ни связей, ни денег, все сам. «Суворовское» с отличием, высшее военное тоже, в академии первым номером шел, так что пацан он умный, но подлый. Он училище вместе с Гордеевым заканчивал, а академию с Разиным и Корецким. Мне Юрка рассказывал, что такого проныру, как «Шутник» еще поискать, он кожей чувствует, куда ветер дует.
–А Ленка?
–Ленка?… Ленка, как в песне: «Все ждала и верила….», тот, ни одной бабы не пропускал, если у нее родственники при должностях, а эта смиренно дожидалась, когда Лешенька в карьере закрепится.
–Она, что не знала…, ну, про баб?
–Да знала, конечно. Мужики это от нее не скрывали, правда, напрямую не говорили, но и секрета особого не было, толку–то… Лешенька–свет в окне, несколько абортов сделала, а пять лет назад дочку родила, потому как, все сроки пропустила, и ни один врач ее резать не соглашался.
–А Пашутин?!
–Пашутин!!… Пиздабол поганый!… Дочку Ленка на себя записала, в графе «отец» прочерк. Сначала он с малявкой виделся, приблизительно раз в квартал, деньги чутка подкидывал в таком же режиме, а как женился…, кинет подарок к празднику и все, а видится с дочерью, по–моему, вообще перестал…, точно не знаю. Ленка об этом особо не распространяется, а мы и не спрашиваем… Ну, ты понимаешь…
–Понимаю…
***
–Дорогие присутствующие!–седовласый мужчина энергично стучит вилкой по бокалу,–Прошу внимания!–как его зовут? Он же представился и даже руку мне поцеловал… Не помню,–Я хочу сказать несколько слов о виновнике торжества,–оратор делает величественный жест в сторону окна, где во главе стола расположился хозяин застолья,–Я знаю Николая чертову уйму лет и все эти годы не перестаю удивляться его талантам…
Мы с Ленским присутствуем на торжестве по случаю присвоения очередного звания его двоюродному дяде, вернее двоюродному брату его отчима. Сам отчим в командировке, его супруга (Вовкина мать) на курорте, поэтому поздравлять родственника был отряжен пасынок. Собственно пасынок и не сопротивлялся, сопротивлялась я. Очень уж не хотелось идти, не люблю я всяческие официозы, да и предчувствие нехорошее было, но Вовка настаивал, пришлось согласиться.
–Когда–то давным–давно мы оба были зелененькими лейтенантами,–продолжал распинаться оратор,–а теперь…,–сейчас всю биографию расскажет…, и «были зелененькими…», это как?! Чертями что ль зелененькими?…,–учитывая все выше сказанное, предлагаю выпить за нашего дорогого Николая Михайловича,–наконец–то закруглился тостующий, и это было единственное его полезное высказывание. Все присутствующие радостно загомонили и принялись опустошать рюмки, стопки, бокалы и прочую «питейную» тару.
Ленский опрокинул коньяк и тут же налил себе еще.
Я поморщилась,–Ты бы хоть закусывал.
–Обязательно. Вот,–он подцепил на вилку кусок семги,–Ам!–отправил ее в рот и запил коньяком,–А посуда–то опять пустая,–и потянулся за бутылкой…
Заиграла музыка, задвигались стулья, я воспользовалась ситуацией и встала.
–Надеюсь, уходить не собираешься?–Урбанович улыбался во все тридцать два зуба.
–Да, куда мне,–я кивнула в сторону Ленского, тот активно чокался со своим визави и попутно что–то ему втолковывал.
–Да ладно, пусть «крестник» гуляет, пойдем на балкон, подышим.
Вроде предложение вполне невинное, только…
На балконе Урбанович, как бы невзначай, положил свою руку мне на плечо,–Не хотела идти на это пиршество?! Я угадал?
–Откуда такие выводы?
–Выражение твоего лица подсказало.
–Ты офицер или психолог?
–Хороший офицер должен быть психологом–это входит в его обязанности.
–В академии научили?
–Отец меня так учил,–его рука медленно переползла с одного плеча на другое, потом на пояс, потом…
–Апчхи!!
–Замерзла?
–Нет. Тополиный пух в нос попал. Пошли лучше отсюда.
Банкет протекал по всем правилам. Сначала почти все присутствующие, (а было их человек двадцать, не считая сопровождающих), рассказывали, какая замечательная личность наш хозяин и каждый рассказ заканчивался призывом выпить за этого великолепного, честного, доброго, порядочного… (нужное подчеркнуть) человека. Далее активно закусывали, что–то обсуждали, требовали перерыва, выходили подышать, покурить, расслабиться, потом все повторялось и так более трех часов. Ленский был весел, доволен и сильно пьян, а я судорожно соображала, как при таком раскладе мы попадем домой.
–О чем задумалась,–я вздрогнула. Урбанович. Он после «балкона» не проявлялся, даже подумала, что ушел.
–Домой пора,–вздыхаю и ищу глазами Ленского,–такси вызвать надо.
–Не надо. Сейчас еще «на посошок» и я вас отвезу.
–Ну, ты сейчас тоже не образец трезвости, и за руль?
–Зачем? Шофер есть. Я, как и крестник, гость–заместитель. Отец в госпитале, а меня сюда прислал и в качестве компенсации свою «персоналку» отрядил.
Уходили мы одни из последних, пока спускались, Вовка висел на Урбановиче, как старый рюкзак, но на улице приободрился и даже самостоятельно добрался до машины,–Шеф! Я покажу дорогу…, вот…, вот…, сейчас…,–силился он открыть дверь рядом с водителем.
–А вот этого не надо,–Урбанович ловко сграбастал «крестника» в охапку и перенаправил на заднее сидение,–Инга, ты спереди. Водитель город хорошо знает, ну, а какой там дом, корпус, тут ему твоя помощь понадобится.
Пока ехали, Ленского окончательно разморило, из машины его доставали уже втроем. Возились минут пятнадцать, кое–как довели до лифта, потом водитель вернулся обратно, а мы с Урбановичем продолжили свою такелажную миссию.
Пока я вскрывала двери, сначала в квартиру, потом в комнату, Урбанович контролировал крестника, тот, хоть и посапывал, прислонившись к стене, но все время порывался потерять равновесие.
Покончив с затворами, я включила свет и сдернула с дивана старенькое покрывало,–Готово! Давай его сюда!
Пыхтя и отдуваясь, Урбанович втащил Ленского в комнату, положил на диван, снял с него пиджак, обувь, брюки, потом аккуратно откатил к стенке и прикрыл покрывалом,–Порядок. Теперь до утра не проснется,–щелкнул выключатель.
Охнуть не успела, как его губы впились в мои с такой силой, что мне чуть дыхание не перекрыло…
Раз, два, три…
–Внизу водитель ждет.
–Подождет…,–и опять меня, словно в тиски запечатали…
–Тебя ждут!… Ты понял, что я сказала?!
–Понял. Пока….
…Пока?! Это он о чем?…
***
–Куда ты меня ведешь?
–В «Нескучный»!
–Двенадцатый час ночи! Все закрыто давно!
–Пошли, пошли,–Ленский властно тянет меня за собой, я упираюсь, на плече у него объемистая спортивная сумка, в ней что–то предательски позвякивает,–Идем, говорю! А то сейчас…
Мы сворачиваем с проспекта и направляемся в сторону парковых ворот, они естественно закрыты и презрительно сияют неприступной бронзой.
–Ну, что я говорила?!
–За мной, душа моя! Я приведу тебя к счастью!
–Хватит дурака валять!
–А никто и не собирается. Я здесь вырос, каждую козявку знаю. Мы в «Нескучный» с уроков сбегали, вон за теми домами моя школа.
Сначала идем вдоль ограды, потом лезем через кусты, далее по тропинке между заброшенных бытовок и оказываемся в тупике перед деревянной загородкой.
–Я через забор не полезу! Ни за что!!!!
–И не надо…,–Ленский тщательно обследует штакетник, одну доску, вторую…,–Нашел! Нынешняя молодежь не подвела,–он раздвигает доски и являет миру внушительных размеров лаз,–Вуа–ля!
…И вот мы стоим на высоком холме, вся «макушка» которого сплошь покрыта пеньками от спиленных деревьев, пеньки давнишние, одни уже основательно подгнили, а из других наоборот старательно пробиваются молодые побеги, видимо здесь расчищали площадку под застройку, а потом бросили и даже не все спиленные деревья убрали. Вон их сколько: раз, два, три…, целых шесть штук.
Ленский подходит к ближайшему и скидывает с плеча сумку,–Присаживайся. Будем пировать! Пока тут, а как малость стемнеет, спустимся вниз, к тому времени все местные околоточные по норам разойдутся.
А до темноты еще далеко. Дерзкие, но уже потерявшие свою мощь, лучи ласково скользят по забору, по вырубке и дальше вниз по склону от дерева к дереву…
–Как обещало, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановою от занавеси до дивана,–слышу я за спиной,–Правда, это про утро в августе, а сейчас июль и вечер,–оборачиваюсь, Ленский уже удобно расположился на толстом сучковатом бревне и чем–то ловко откупорил бутылку,–Где–то стакан был… Нашел!–он налил вино в треснутый «граненник» и протянул его мне,–Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка… Наплевать, что про август, очень похоже.
Действительно, похоже.
Тишина, даже птиц не слышно. Бревно, на котором мы так уютно устроились, слегка поскрипывает, стакан у нас один, мы пьем из него по очереди и целуемся.
–Весною слышен шорох снов…,–Вовкины пальцы ползут по моей шее, проникают в вырез платья..,–и шелест новостей и истин…–и дальше, дальше, забираются под ткань бюстгальтера…,–Ты из семьи таких основ. Твой смысл, как воздух бескорыстен…
Прозрачные июльские сумерки медленно заполняют воздух, но это здесь на холме они прозрачные, а глянешь вниз, деревья, словно серой ватой укутаны.
Я поежилась,–Темновато уже. Как мы спускаться–то будем? Может ну его?
–Ничего не «ну»,–Вовка медленно, будто нехотя, поднимается и вешает себе на плечо сумку,–Руку давай,–и, видя, что я топчусь в нерешительности, нежно целует мои губы,–Любить иных–тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин…,– поцелуй все крепче, крепче…, по коже бежит нервная дрожь…,–Не бойся. Я не дам пропасть своей любимой женщине.
Мы медленно спускаемся с холма, деревья здесь стоят плотно и, хотя еще даже не начинало темнеть по–настоящему, мне страшновато. От напряжения ноги дрожат, а спина наоборот взмокла, как после бани. Хорошо, что босоножки «на плоском ходу», а то…, и в этот момент моя левая ступня напарывается на что–то круглое и едет вниз.
–Опа!–сильные руки Ленского ловят меня в последний момент,–Говорил же, чтобы за мной шла. Зачем вперед лезешь?–он извлекает из сумки карманный фонарик и начинает осматривать мою ногу. Лучик медленно ползет от ступни к колену, на голени красуется внушительная ссадина,–Больно?–я отрицательно трясу головой,–Дальше никакой самодеятельности, наступать только там, где я посветил,–он внимательно «обшаривает» фонариком окрестности и буквально в двух шагах обнаруживает широкую протоптанную тропинку,–Ну, вот и «дорога жизни».
Сначала тропинка петляет по холму, но потом незаметно перетекает в широкую аллею, приводит нас к каменной лестнице, к пруду и превращается в асфальтированную парковую дорожку, обрамленную чугунными фонарными столбами, как ни странно, некоторые из них работают, правда, вполнакала, но для июльской ночи этого вполне достаточно.
–Теперь направо,–восклицает Ленский,–если я правильно помню…
Поворачиваем направо и оказываемся на площадке аттракционов.
Природа уже окончательно закончила игру со светом и на землю опустилась вязкая, похожая на чернозем, мгла, слегка прорванная редкими звездочками да тусклым светом фонаря, притулившегося к билетной кассе.
Ленский пару минут прислушивается, потом деловито направляется к карусели,–Иди, сюда,–я повинуюсь,–Посвети,–он сует мне в руку фонарь, а сам сосредоточено копается в ржавом замке, замыкающем железную цепь, переброшенную через ограждение.
–С ума сошел!! А, если сторож?!!
–Они дрыхнут давно или водку пьют. В двенадцать обход сделали и харе, теперь, в лучшем случае, часов в пять–шесть, а то и позже,–замок щелкает и летит вниз, а вслед за ним ползет цепь,–Вот и все,–Вовка широким жестом распахивает калитку,–Выбирай «скакуна»: пони, верблюд, медведь…
–Черепаха.
–Черепаха, так черепаха. А рядом кто? Лемур что ли?
–Сам ты лемур! Ежик это!
–А по виду не скажешь. Скульптору руки бы оторвать или кто там их делает…,–он помогает мне взобраться на черепаху, достает из сумки еще бутылку (в этот раз шампанское), деловито ее трясет и срывает пробку,–Салют в честь прекрасной дамы,–шампанское фонтаном вырывается наружу, а Ленский эффектно падает на правое колено,–…Уронила шелк волос ты на кофту синюю. Пролил тонкий запах роз ветер под осиною….,–он отпивает из бутылки и с поклоном преподносит ее мне,–Расплескала в камень струи цвета винного волна–мне хотелось в поцелуи душу выплескать до дна,–я делаю один глоток, второй, чувствую, как меня «снимают» с черепахи, потом целуют, потом…
…Мы сидим на чахлом газоне, допиваем шампанское и устало наблюдаем, как ветер колышет бахрому «карусельного» шатра.
–А чьи стихи ты читал последними? Пастернака я узнала, а этого автора нет.
–Николай Рубцов.
–А откуда ты столько поэзии знаешь, не специально же учил, чтобы меня поразить.
–Когда–то в Доме пионеров в театральной студии занимался. Супруга моя тоже туда ходила, там и познакомились.
Я неприязненно поежилась,‒И каким ветром тебя туда занесло?
–Ребенком трудным был, а уж подростком…, нет, учился–то я прилично, двойки, конечно, были, но в целом ничего, а вот с поведением полная беда. Все время влипал в разные истории, драки, битые стекла, поломанные лавочки, поэтому матушка постоянно пыталась меня пристроить то в волейбольную секцию, то на теннис, то на самбо.
–И чего? Тебя физические упражнения напрягали?
–Да, нет. Заниматься мне нравилось, и достижения неплохие были, только в спорте главное, что? Дисциплина. А я все время старался какой–нибудь балдеж замесить, поэтому и гнали отовсюду. Последний случай настоящий шедевр. Это в ДК при «Красном октябре» было, я там гимнастикой занимался. У нас уборщицей была очень странная тетечка. Ходила в длинном черном одеянии, волосы под берет прятала, а сверху еще платок повязывала и все время крестилась, особенно, когда видела, как мы на снарядах кувыркаемся, и я решил ее разыграть. Остался после занятий в раздевалке, напялил на себя мотоциклетный шлем, обмотался простыней, веник прихватил, выключил свет и спрятался за шкаф. Примерно через полчаса, тетка пришла убираться, дверь открыла, стала выключатель на стене искать, тут я из–за шкафа: «А–а–а….а! Гореть тебе в гиене огненной! Покайся, грешница!». Топаю, руками размахиваю, веником по шкафу стучу… Она сначала остолбенела, даже глазами не моргает, а потом, как заголосит: «Антихрист! Караул! Антихрист!» и в коридор…. Оттуда стук и грохот чего–то металлического, я веник в сторону, шлем прочь и за ней. Гляжу, тетка посреди коридора в луже барахтается, и верещит, как свинья на бойне. Я к ней, а простыню–то снять забыл, да еще ведро, что она опрокинула, мне под ноги попалось. Я пару раз перевернулся и прямо передней на ноги встал. Она глаза закатила: «Господь небесный! Спаситель наш! Пришел по воде яко посуху! Сохрани душу мою грешную!», за простынь цепляется, кеды мои целует, ну, а потом сторож прибежал… Тетечка оказалась дальней родственницей директору ДК, да еще в психдиспансере на учете состояла, ее из коридора прямо туда и увезли.
–Сильно влетело?
–Да, как сказать… Вот после этого случая матушка, и отвела меня в «актеры», решила, раз уж я испытываю тягу к лицедейству, то должен заниматься им в обществе себе подобных, чтобы обычные люди не страдали, а руководил студией старый приятель ее отца, моего деда то бишь, Федор Иванович Марьинский, ему к тому времени, наверное, лет восемьдесят с лишним было, и на профессиональную сцену он уже не выходил, а когда–то играл много и не только в советских, но и в императорских театрах. Старик был потрясающий! Всегда подтянутый, элегантный, с бабочкой, трость с серебряным набалдашником в виде головы льва. Сколько же он знал! Я до встречи с ним читал, что называется, из–под палки, а после за два года больше половины дедовой библиотеки «проглотил».
–И сколько ты там продержался?
–Не поверишь, почти до окончания школы.
–Так актером быть понравилось?
–Ну, театр–это не только актеры. Костюмеры, рабочие сцены, осветители, бутафоры, а если в спектакле большая массовка нужна, практически весь состав студии на сцену выходил, когда инсценировку «Сына полка» ставили, я за спектакль, раз пять переодевался. Сначала был красноармейцем, потом фашистом, потом крестьянским дедом, потом опять фашистом и в конце партизаном, не считая «боевых потерь», ну это, когда убитых изображают, но, главным моим достоинством была хорошая память. Мне было достаточно прочитать текст три, максимум четыре раза и я его запоминал намертво, а для поэзии мне и двух раз хватало, поэтому основная моя должность была суфлер. Дом пионеров еще до войны строили, зал театральный был сделан по старым канонам, с суфлерской будкой. Я ее обожал, заберешься туда перед спектаклем и сразу становишься невидимкой, из зала тебя не видят, а актеры в мою сторону специально старались не смотреть.
–Почему?
–Подсказывал я классно, как выражался наш худрук, весьма профессионально, но просто сидеть было скучно, и я постоянно чего–нибудь изображал. Любимое занятие: мимикой и жестами комментировать текст пьесы. Представь, на сцене Чацкий: «Не образумлюсь… виноват…», а я в это время ему рожи строю, такое не все выдерживали.
–И тебе за это не влетало?
–В том то и дело, что нет. Марьинский говорил, что если актер на сцене реагирует на внешние раздражители, то грош ему цена, поэтому я творил, что хотел, проверял актеров, так сказать, на профпригодность.
–А кроме массовки, ты на сцену выходил?
–Слугу Фамусова играл, ну этого «…Петрушка, вечно ты с обновкой…», там слов нет, все просто. Слушай, как тебя отчитывают, да головой кивай, кучер Селифан в «Мертвых душах», тут малость посложнее, слов, правда, тоже нет, но есть сцена, где кучер в пьяном виде Чичикова в канаву вываливает, надо было изобразить мужичонку во хмелю.
–Ну, с твоим–то опытом,–не удержалась я.
–Мне тогда четырнадцать было, весь опыт: бутылка портвейна на пять человек, а вершина моей карьеры–второй могильщик в «Гамлете», там даже слова есть, штук десять… Хотя нет. Вспомнил один случай. Ставили «Ромео и Джульетту», дело было зимой, незадолго до премьеры половину состава свалил грипп. Даже думали спектакль отменять, но худо–бедно все оклемались, кроме Ваньки Трошина, у него простуда дала осложнение на связки и врачи категорически запретили говорить, играл он отца Джульетты, синьора Капулетти. Роль, конечно, не главная и текста немного, но без нее никак, а дублера у него не было, и тут вспомнили про меня. Пьесу я знал наизусть, на репетициях присутствовал, мизансцены видел, а если что, товарищи помогут. Ну, я, с грехом пополам, отыграл три спектакля, а потом, слава богу, Ванька выздоровел.
–Почему, слава богу?
–Потому что текст знать–это одно, а роль играть–это совершенно другое. Капулетти в конце пьесы страдать положено, племянник убит, дочь зарезалась, а я понарошку чувствовать не умею, только по–настоящему…,–Вовка слегка щелкнул меня по носу, а потом нежно поцеловал «ушибленное» место,–вот как сейчас…
…«Черноземная» мгла незаметно переродилась в сероватую блеклость, звездочки исчезли, а фонарь у билетной кассы потух, из кустов шиповника, окружившего аттракционный «пятачок», доносилась возня и чириканье.
Вовка посмотрел на часы,–Половина четвертого. Давай–ка мы с тобой отсюда переместимся, бог знает, когда у местных околоточных обход по плану.
Опять вокруг пруда, к каменной лестнице, потом вверх по склону в царство тайных тропинок и лесных дебрей, где бедная дорожка мечется среди деревьев: вправо, влево, вверх, опять вправо… Я так увлеклась хитросплетениями парковой путеводительницы, что не заметила, как она вывела нас на открытое пространство к мраморной ротонде.
–Вашу руку, прекрасная дама!–Ленский бережно взял мою ладонь, и мы медленно двинулись в сторону павильона.
Сероватая блеклость давно растворилась, а ее место заняли озорные солнечные лучики. Они были еще юны и неопытны, но уже дерзко скакали по мраморным ступенькам, перепрыгивали с колонны на колонну, путались в капителях, но проникнуть внутрь у них пока не получалось, там обитал полумрак и покой.
Мы поднялись в ротонду по разным лестницам. В центре павильона, уцепившись друг за друга спинками, дремали две крутобокие скамейки. Минута, две, три…, и вот, словно дуэлянты, мы начали движение навстречу друг другу…
–Ты–благо гибельного шага, когда житье тошней недуга..,–произносит Ленский,–А корень красоты–отвага, и это тянет нас друг к другу…,–его рука развязывает пояс моего платья и тянется к молнии на спине…
–На озаренный потолок ложились тени,…–отвечаю я,–Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья,…–мои пальцы судорожно копошатся в недрах его рубашки,–И падали два башмачка со стуком на пол…
…Дуэль началась…
***
Я стою в комнате соседки и пытаюсь вспомнить номер телефона. Я очень устала, болит спина, глаза предательски закрываются, рухнуть бы под одеяло и обо всем забыть… Сто двадцать три, сорок восемь…
–Ика! Ика!!–голос из ванной! Срываюсь с места и мчусь на голос,–Ика…., Ика…,–это уже не крик, а хрипение удавленника.
Ленский склонился над раковиной и отплевывается, изо рта у него тянется синеватая слизь… Бегу на кухню, хватаю первую попавшуюся тряпку и несусь обратно,–Сейчас, сейчас…, сейчас будет легче,–водружаю мокрую тряпицу Ленскому на лицо и волоку его в комнату.
Тяжело… Жаль, Гришки нет, этот и пьяный помог бы…, тетка Дуня пятые сутки на дежурстве, так на своей автобазе и живет, а тетка Лена в больнице.
Вовка падает на диван, как мешок картошки и стонет.
Сто двадцать три, сорок восемь, тринадцать… Точно! Вспомнила. Набираю номер и жду…, ту–ту–ту… жду долго, потом слышу–Да? Кто это?
–Тонь, прости ради бога, это Инга. Тонь я не знаю, что делать…,– уже почти реву,– Тонь я…
–Спокойно! Сколько он выпил?
–С собой принес «Кодрянку», две по ноль семь, но и до этого уже был хорош.
–Как сейчас?
–Пот градом, мечется, руки ходуном ходят, рвет его, а нечем, только, слюни да слизь.
–Глаза красные?
–Незаметно.
–Заговаривается?
–Нет.
–Ясно. Загони его под холодную воду, потом накапай валокордину или корвалолу тридцать–сорок капель, активированный уголь дай, сколько есть столько, и скорми, и аскорбинку, как можно больше, потом спать, он после душа сам свалится. Утром если попросит опохмелиться, дай, грамм пятьдесят, максимум семьдесят. Есть чего?