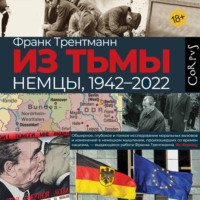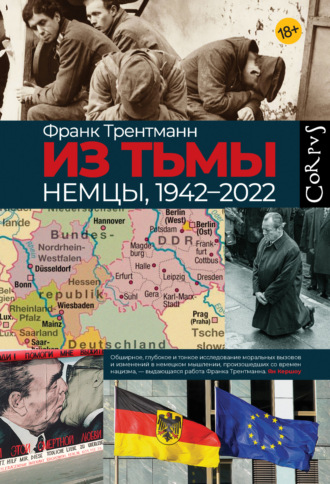
Полная версия
Из тьмы. Немцы, 1942–2022
У немцев есть поговорка “Mitgefangen, mitgehangen” – вместе пойманы, вместе вздернуты. Она выражает крайний взгляд на проблему соучастия, предлагая одинаково наказывать всех, невзирая на реальную степень ответственности. Нацисты практиковали извращенный культ коллективного отмщения. Можно было казнить заложников и гражданских, на которых распространялась ответственность за диверсии или убийства отдельных немецких солдат в том месте, где они проживали; и теперь эта политика, известная со времен колониальных войн, стала еще радикальнее. Коллективные наказания отражали презрение к индивидуальной жизни. Нацисты возродили средневековую концепцию Sippenhaft – родственной ответственности, в соответствии с которой вся семья должна была отвечать за деяние одного из ее членов: с конца 1942 года эта практика применялась к женам, детям и братьям дезертиров, а затем – к семьям заговорщиков, пытавшихся убить Гитлера 20 июля 1944 года. После 1945 года понятия вины и соучастия были радикально пересмотрены, но важно подчеркнуть, что в 1943–1945 годах множество немцев хорошо знало, что это такое.
Осведомленность о зверствах немцев на фронте мешала осудить советские преступления. Весной 1943-го нацистская пропаганда сделала попытку использовать в своих целях обнаружение массовых захоронений в Катынском лесу под Смоленском, где Советы расстреливали польских офицеров и представителей интеллигенции, объявив их “работой еврейских мясников”. Реакция общественности варьировалась от агрессивного антисемитизма до критического самоанализа. В Берлине тайная полиция резюмировала мнения, распространенные прежде всего в образованных и религиозных кругах, следующим образом: “Мы не имеем права огорчаться из-за того, что делают русские, поскольку немцы уничтожили намного больше поляков и евреев”. Сходные высказывания отмечались в сельской местности в Нижней Франконии. В саксонском Галле взгляды жителей разделились: одни хотели “убить евреев”, другие указывали, что если бы немцы сами не громили евреев, сейчас царил бы мир. Как писал окружной глава Швабии в июне 1943 года, “шок Сталинграда еще не прошел”, и люди опасались, что русские могут убить немецких пленных “в отместку за предполагаемые массовые казни евреев на востоке”47. В ноябре 1944-го штутгартское отделение тайной полиции критиковало пропагандистские сообщения нацистов о массовых убийствах гражданского населения, осуществленных Красной армией в Неммерсдорфе (сейчас – Маяковское, Литва), первой прусской деревне, сдавшейся Советам, поскольку они часто имели обратный эффект. Среди местного населения “многие” говорили: “При виде этого кровопролития думающий человек немедленно вспомнит о тех зверствах, которые мы сами творили на земле врага, да и в самой Германии тоже. Не мы ли тысячами убивали евреев? Не говорят ли солдаты снова и снова, что в Польше евреям приходится самим рыть себе могилы? А что мы сделали с евреями в концлагере в Эльзасе? Евреи ведь тоже люди. Мы показали союзникам, как они могут с нами обойтись, если победят”48.
Таких “мы” было великое множество. Среди тех, кто находился в тылу, распространялось чувство соучастия в преступлениях, совершенных от их имени. А где же в этом пейзаже возмездия, отмщения и расплаты видела себя церковь? Религия традиционно претендует на моральное лидерство. При нацистах и протестантская, и католическая церкви утратили эту роль. В 1933-м и та, и другая присягнули Гитлеру, причем лютеране сделали это с наибольшей готовностью. Современность и секуляризация подрывали веру и авторитет церкви. Предполагалось, что нацисты возродят христианство, как и Германию. И в этом церкви не могли ошибаться сильнее. Нацистский тоталитаризм – от юношеских союзов и благотворительных кампаний до публичных ритуалов и культа Гитлера – только подрывал и без того уменьшающуюся роль церкви в обществе. Среди священников были распространены антисемитизм и антикоммунизм. Единственные два случая, когда церковь сопротивлялась, – это борьба Исповедующей церкви против яростных “Немецких христиан” из-за отстранения обращенных евреев от церкви в 1934 году и протесты католиков и протестантов против эвтаназии в 1941-м, которые на какое-то время заставили Гитлера отложить убийство людей с ограниченными возможностями (к тому времени в рамках так называемой Aktion T4 уже было уничтожено около 100 тысяч человек). Участие в выступлениях против эвтаназии, которыми руководил католический епископ Мюнстера Клеменс фон Гален, требовало мужества. Но все же заботы духовенства распространялись только на его паству. Обращенные евреи были членами церковных общин, а об инвалидах заботились в церковных приютах, причем и у тех, и у других были семьи, способные высказаться от их имени. Но подобного мужества не хватало, когда речь шла о посторонних – о депортациях и уничтожении евреев, убийствах советских военнопленных и гражданских и других зверствах. Церкви активно участвовали в войне, в пропаганде, направленной против большевистского врага, и в системе принудительного труда; так, в протестантских госпиталях и приходах работало около 12 тысяч подневольных рабочих50.
Протестантский епископ Теофил Вурм был одним из первых и наиболее активных критиков нацистской системы массового уничтожения. В 1940 году он разослал письма протеста против Kristallnacht и убийств, связанных с эвтаназией. Вурм был не чужд антисемитизма – он считал евреев “опасным” элементом, с которым государство имеет право бороться, но нацисты зашли слишком далеко. В 1941 году он заявил Генриху Гиммлеру о своем несогласии по поводу массовых убийств. Депортация евреев-полукровок (Mischlinge) заставила его вновь разослать письма протеста в марте 1943 года министрам правительства, а в июле – и самому Гитлеру. “Убийство без военной необходимости и без судебного приговора есть извращение Божьих заповедей, даже если таков приказ властей”51. Вурм писал, что политика “истребления еврейства” представляет собой “ужасную несправедливость, роковую для немецкого народа”. Как и во многих других заявлениях, главной проблемой было не убийство евреев, а то, что “арийским” немцам в конечном счете придется за это расплачиваться. Бомбежки – это Божья кара. Не говорит ли Библия: “Что посеешь, то и пожнешь”? “Горе тем, кто полагает, что других людей разрешено убивать, – постановил в конце августа 1943 года Силезский синод в Бреслау, – если их считают бесполезными или принадлежащими к другой расе”52.
Тем не менее в протестантской церкви и в Гамбурге более всего набирали силу другие интерпретации бомбежек. Название операции “Гоморра” придумали англичане, но местные пасторы совместно с прихожанами обратились к Книге Бытия, чтобы объяснить гнев Божий. Не была ли их судьба подобна судьбе Лотовой жены? Библия рассказывает, что перед тем, как Господь наказал жителей Содома и Гоморры, ангел предупредил благочестивого Лота и его семью: “Спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть”. После этого Бог обрушил на оба города “серу и огонь”. Лот послушался, но его жена “оглянулась… и стала соляным столпом” (Бытие 19:26). Мораль, следующая из этой истории, такова: не оглядывайтесь на свои прошлые грехи, освободитесь от них, смотрите вперед и следуйте Христу. Пастор района Гамм написал циркулярное письмо прихожанам, оставшимся в живых, основываясь на истории Лота. Бомбежка всех предупреждала: “Смотрите не назад, а вверх”. Немцев наказывали за то, что они предпочли спасению земные соблазны. “Должны ли мы обвинять Королевские ВВС?” – вопрошал другой пастор. Этим ничего не добиться53. В конечном счете бомбежка – это не о британцах. Это вопрос, адресованный Богом к немцам: когда закончится их безбожие?
Симон Шёффель был старшим пастором в Михеле, церкви Святого Михаила, главной церкви и достопримечательности Гамбурга. В 1933 году он призвал всех лютеран поддержать национал-социалистов в их борьбе с либерализмом, секуляризацией и загрязнением немецкой нации чужой кровью. Теперь, после налетов, он стал проповедовать, что бомбежки – это послание о том, что нужно стряхнуть с себя все путы и следовать Христу. В Пасхальное воскресенье 1944 года во время службы случился очередной налет и пастве пришлось прятаться в крипте до часа ночи. Когда Шёффель продолжил службу в Пасхальный понедельник, он заверил прихожан, что воскресение из мертвых сейчас приобретает большее значение, чем когда-либо раньше. Оно относится не к завтрашнему дню и не к будущему году. Вера в Христа дает им вечное будущее, которое никогда не станет прошлым. Бомбардировки очищали их души. Снова и снова он объяснял, что страдания не напрасны: они открывают души духу Божьему54.
Все эти толкования вели к одному выводу. Да, немцев наказывали, и наказывали справедливо, но не за прегрешения против евреев или других “врагов” Volk. Их наказывали за слабость их христианской веры. “Есть страдание, – проповедовал Шёффель, – которое ниспосылают нам не за наши грехи, но – скажем откровенно – ради царствия Божия, ради Иисуса”. В католических землях священники сходным образом представляли бомбардировки как гнев Божий, как наказание за углубляющийся разрыв между миром духовным и миром земным, помешанным на деньгах, технологиях и нововведениях. Такие диагнозы тоже подразумевали соучастие определенного рода, однако оно было трансцендентным и обращенным к небесам, освобождающим верующих от размышлений об ответственности за последствия своих поступков здесь и сейчас. Для этих людей бомбардировки означали, что нужно отвернуться от Мамоны, а не от Гитлера55.
Разделенный VolkБомбардировки, бегство и эвакуация нанесли Volksgemeinschaft как моральный, так и материальный ущерб. Нацисты создали обширную сеть социального обеспечения. Взаимопомощь была центральным элементом нацистского режима, и во многих сердцах она порождала отсвет сострадания – в особенности это касалось молодежи, которая помогала старикам и собирала пожертвования и металлолом на благо нации. Через Winterhilfswerk прошли миллионы матрасов, предметов одежды и продуктовых наборов для нуждающихся56. В организации было больше миллиона волонтеров. Ее девизом было: народ (Volk) помогает себе сам. Одна из социальных работниц так объясняла его смысл. В отличие от либеральной Британии, где предупредительная помощь собирается по крохам, нацисты воюют с причинами общественных недугов. Вместо того, чтобы полагаться на милостыню, нацисты организовали “положительную и конструктивную заботу о Volk… этос национального самосохранения”. Религиозная благотворительность типа “возлюби ближнего своего” была основана на “чистых взаимоотношениях ты-и-я”57. Женщина надеялась, что это сохранится, но только как дополнение к Fernstenliebe, любви к дальнему. Конечно, эта расширенная сфера эмпатии была сосредоточена вокруг “арийской” нации и исключала евреев, которым не разрешалось даже участвовать в подобной благотворительности, не то что получать через нее помощь. Нацистская мораль также прямо нападала на более личную, духовную идею церковной благотворительности. В 1937 году церковным организациям было запрещено собирать пожертвования на улицах.
В действительности нацистское социальное обеспечение никогда не было по-настоящему добровольным. Оно полагалось на общественное давление и принуждение. В марте 1943 года шахтерам было фактически приказано участвовать в “добровольной танковой смене” для помощи военным усилиям. Годом позже все сотрудники автоматически перечислили 10 % подоходного налога на нужды “Зимней помощи”58. Когда пожертвования снова выросли, это произошло не только из-за инфляции, но и из-за чувства, что деньги потеряли свою стоимость.
Первоначально жертвы бомбардировок могли рассчитывать на существенную помощь государства. К весне 1942 года в Гамбурге было зарегистрировано 180 тысяч прошений на общую сумму в 100 миллионов рейхсмарок для возмещения ущерба от военных действий. Люди получали материальную помощь на покупку новой посуды. Бездомных расселяли в квартиры депортированных евреев, и они получали свою долю из конфискованной у тех мебели, правда, лишь после того, как партийные боссы выбирали для себя лучшее. Помощь и соцобеспечение были важными движущими силами нацистского Volksgemeinschaft. Однако к лету 1943-го масштабы разрушений были таковы, что местные власти более не справлялись. Теперь нацисты опасались, что любые призывы к самопомощи прозвучат как открытое признание в поражении59.
Массовая эвакуация также порождала напряжение. В Вестфалии в северо-западной части страны матери открыто протестовали против приказа об эвакуации детей. Власти угрожали в случае неповиновения отбирать продуктовые пайки. “Мои дети никуда не уедут, а если у меня не останется еды, я, по крайней мере, смогу погибнуть вместе с ними”, – говорила одна из матерей60. Горожане, лишившиеся крова из-за бомбежек, встречали наибольшее сочувствие в тех регионах, где имелся собственный опыт миграции, как, например, на востоке Германии. Однако повсюду прибытие эвакуированных женщин и детей заставляло местных жителей ограничивать свое сочувствие кругом близких и соседей. Доклады тайной полиции в августе 1943 года предупреждали о “прохладном, если не враждебном приеме”, который ожидал семьи гамбуржцев в Австрии и Баварии, “бомбоубежище” рейха. Когда бомбили Мюнхен и Нюрнберг, местные жители возлагали вину на жителей Гамбурга – “потому что вы не ходите в церковь!”61 В некоторых городах владельцы больших квартир отказывались принимать у себя беженцев, пострадавших от бомбежек; таких владельцев арестовывали. Жители сельской местности находили вновь прибывших горожан испорченными: те относились к ним как к слугам. С другой стороны, молодые матери из числа эвакуированных жаловались, что квартирные хозяйки не разрешают им стирать подгузники или греть молоко для младенцев. Поводом для конфликтов были различия в пищевых привычках, диалекте и образе жизни. По мнению тех, кого эвакуировали в Альпы, принятые там блюда с клецками “годились только для свиней”62. Из-за недоброжелательства местных многие эвакуированные возвращались домой без разрешения. Даже сырой подвал в разбомбленном Гамбурге был лучше. “Здесь, в Австрии, никто не испытывает [к нам] сочувствия, – жаловалась одна из матерей. – Попробовали бы они сами, что такое бомбежки”63. Солидарность Volksgemeinschaft была вдребезги разбита бомбардировками.
Бомбардировки испытывали на прочность и семейные связи, и результаты были разными. Для многих в тылу быть объектом “террористических атак”, как их называли нацисты, означало наличие цели и самопожертвование, подобное самопожертвованию их детей на поле боя. В мае 1943-го родители писали своему сыну Гельмуту из Эссена, что “ни в каком другом городе жители не прошли через такое количество налетов, как в Эссене… Раненых награждали Пурпурным сердцем и даже Железным крестом. Этим все сказано… Мы стали почти такими же смиренными, как наши храбрые солдаты на фронте. Мы не хотим, чтобы ты нас стыдился, и всегда будем исполнять свой долг вплоть до окончательной победы”64. Некоторые солдаты приходили в ярость, узнав, что их семьи покинули родной город. Мартин Майер из Берлина, в прошлом банковский клерк, воевал в составе 14-й танковой дивизии на территории Франции и Украины; это была одна из дивизий, разгромленных под Сталинградом, ее нужно было реорганизовать. В августе 1943 года он писал жене. Может быть, она “сошла с ума”? Покидать Берлин было худшим из того, что она могла сделать: это “проявление нелояльности фюреру и нашему делу”. Ей должно быть стыдно за себя. Ее и других берлинцев стоило бы “отправить на несколько недель в концлагерь поголодать”. Это была измена родине, удар в спину, как в 1918-м. Майер вернется из России с победой и отыщет всех этих недалеких и эгоистичных людей. Он сам может сосчитать по пальцам одной руки, когда он кричал “хайль”, но такое поведение вызывает у него лишь брезгливость. Если бы его жена внимательно прочитала приказы об эвакуации, то поняла бы, что вывозят только стариков, детей и больных, так как осенью немцы сровняют Лондон с землей, а если англичане ответят, то этот “вздор” и вовсе потеряет значение65.
Разногласия раскалывали семьи. Одной из подобных трагических историй стала история докера Конрада Х., который трудился на судоверфи Blomm&Voss в Гамбурге. В самом конце 1942 года он гостил у своего больного отца в Рурской области и говорил семье о том, что война скоро будет проиграна. Удивленный тем, что в местной пивной люди все еще обмениваются нацистским приветствием, он сказал, что члены партии первыми лишатся голов после победы врага. Старший брат Фриц посоветовал ему говорить потише, чтобы не привлекать к себе внимания. Несколько недель спустя их брат Вилли оказался дома в увольнительной с фронта, и Фриц упомянул о случившемся в пивной. Вилли, служивший в Waffen-SS, заявил, что обязан доложить об этом своему командиру. По сохранившимся фрагментам судебного дела не понятно, сделал ли он это. Тем не менее в феврале 1943 года Конрада арестовали по подозрению в участии в диверсии, которая привела к затоплению корабля. На следующий день его освободили. В сентябре он был арестован снова, на этот раз за пораженчество. Доносили, что на работе он не раз говорил, что “в Сибири города лучше, чем в Америке”, что “война проиграна и русские вот-вот войдут в Гамбург” и что, обсуждая свадебный подарок для коллеги, он заметил, что “кастрюля будет лучше, чем бюст Гитлера”. В марте 1944 года народный суд собрался в частном доме, чтобы вынести свой приговор. В числе свидетелей были Фриц Х. и его жена, хотя как членам семьи суд разрешил им хранить молчание. Дверь в комнату заседаний закрыли неплотно, и те, кто сидел в коридоре, могли слышать заявление Фрица Х.: “Надо искоренить (ausgemerzt) всех, ему подобных. Нам не нужен второй 1918-й” – это был намек на предполагаемый “удар в спину”, когда тылы предали армию и в результате привели к поражению в Первой мировой войне. Вынесение приговора не заняло много времени. Конрада Х. приговорили к смерти. Фриц плакал. “Я не этого добивался, – говорил он другому свидетелю, – и не ожидал, что до этого дойдет”. 20 мая 1944 года его брат был казнен66.
Те же идеологические распри, которые развалили Веймарскую республику, разорвали на части эту семью рабочих. Конрад, хоть и не состоял в коммунистической партии, явно склонялся в этом направлении, о чем знали его братья. Вилли и двое других, напротив, служили в Waffen-SS, военном крыле нацистской партии; все они погибли в последний год войны. Фриц Х. воевал во Франции во время Первой мировой. Затем он вступил в правую военизированную организацию Stahlhelm, а в 1933 году – в НСДАП, но активистом так и не стал. Из его детей в юношеские организации нацистов не вступал никто. Он даже не выписывал нацистских газет. Фриц Х. работал оператором на местном медеплавильном заводе, и после войны его коллеги клялись, что он, зная о людях оппозиционных взглядов, никогда на них не доносил. Во время описываемых событий его собственный сын был на фронте; он тоже погибнет. Судя по всему, Фриц и Конрад Х. поддерживали дружеские отношения.
Фриц Х. был в числе доносчиков, чьи поступки рассматривались немецкими судами после войны. Его судили трижды, и он был оправдан, осужден и снова оправдан. На последнем суде в 1953 году присяжные вынесли заключение, что действия Фрица Х. следует оценивать с нравственной точки зрения, но они не были преступлением67. Его шок при вынесении приговора сочли доказательством того, что он не только не добивался казни брата, но и не мог предположить возможность такого исхода. Когда он призывал “искоренить” брата-пораженца, он использовал распространенное в то время бранное выражение, и его нужно рассматривать в таком контексте. Потрясение, которое вызвал у него приговор, посчитали доказательством того, что “широкие круги” немецкого населения не знали о нарушениях законности при нацистах и других преступлениях – “таких как ужасы концентрационных лагерей и убийства евреев”. Даже если Фриц Х. не добивался смерти брата или был не в состоянии ее предвидеть, неприятный факт заключается в том, что он добровольно его обвинил и считал, что его нужно (по крайней мере) изолировать. Призывая к “искоренению” (ausmerzen), Фриц Х. сознательно или бессознательно принимал нацистское расширительное употребление термина, относящегося к уничтожению сорняков и вредителей, и переносил его на людей, в том числе на собственного брата.
Для других, однако, гибель родных во время авианалетов означала потерю веры в нацистов. Фриц Ланг был сержантом флота. В 1944 году он находился в Форте Хант, американском лагере для военнопленных. В отличие от многих сослуживцев, он больше не верил Гитлеру. Его родители погибли при бомбардировке Карлсруэ. Погибла и его жена. В Германии у него ничего не осталось. И он винил в этом нацистов68.
Гуго Манц, врач в городке Вайблинген, близ Штутгарта, не знал, жив его сын Вернер или нет. Вернер был пилотом истребителя, его сбили в начале августа 1943-го под Белгородом во время Курской битвы. 15 августа отец начал писать ему письма. Если Вернер вернется, он узнает, что случилось за время его отсутствия. Если нет, тогда письма станут “вечным памятником” для семьи. Эти письма, сперва еженедельные, потом ежемесячные, были для отца способом помнить о сыне и выражать свои чувства. Они также помогали ему представлять себя на месте сына. В каком-то смысле сын служил ему “беспристрастным зрителем”. Первое письмо Гуго Манца описывало ужас бомбежек: “Они были более гнусными, жуткими и бесчеловечными, чем все, что можно вообразить… многие тысячи невинных мужчин, женщин, детей и стариков, больных и слабых, были залиты горящим фосфором и обуглились до неузнаваемости”. Затем выживших, которые собирались у полевых кухонь или хоронили мертвых, самолеты союзников “пытали” пулеметным огнем. Это было “ужаснее, чем Страшный суд на средневековых картинах”. Гуго старался держаться за представление о сыне как о герое-летчике. Но продолжающиеся налеты на Штутгарт заставляли его задуматься, стоило ли ради этого жертвовать своим ребенком. Вернер писал, что готов все вынести, чтобы “Германия после этого стала лучше”. Для Гуго это означало, что “храброе молодое поколение… было трагически и бессмысленно принесено в жертву, не успев осуществить свои мечты”. В сентябре он получил письмо, в котором говорилось, что его сын участвовал в 148 вылетах, сбил четыре самолета противника и был дважды награжден. А еще он обстреливал беззащитных людей с бреющего полета69. Гуго утешал себя мыслью, что этот обстрел был для его сына самым трудным. Его брат, священник, внушил ему надежду: смысл христианства – любовь, а не власть. Гуго продолжал писать письма своему пропавшему сыну до самой своей смерти, последовавшей в 1971 году. В 1988 году Немецкий Красный Крест заключил, что Вернер Манц, “вероятнее всего”, погиб, когда его самолет сбили.
Сталинград и ковровые бомбардировки так же потрясли моральные принципы немцев, как и их веру в армию. Собственная уязвимость и страх возмездия, даже поражения, заставили немцев увидеть в новом свете то, что их страна сделала с другими. Ощущение соучастия, тем не менее, снова разделило нацию на разные лагеря. Кто-то укреплял свой боевой дух, поскольку исходом войны теперь могло быть либо все, либо ничего. Как отмечал Геббельс весной 1943 года, “опыт показывает, что когда движение и народ сжигают за собой мосты, люди начинают сражаться более отчаянно, чем если бы отступление было еще возможно”70. Бомбардировки союзников и собственная вина помогли нацистам создать “сообщество общей судьбы” (Schicksalsgemeinschaft), которое будет продолжать сражаться. Но это уже не было цельным Volksgemeinschaft, стоявшим за ними в первой половине войны. Все больше людей обвиняли режим в отсутствии гражданской обороны, сомневались в целесообразности войны и жертв своих близких и переживали, что страданиями расплачиваются за преступления Германии. Такой самоанализ не приводил немедленно к восстанию, но способствовал постепенно нарастающей отчужденности и самоизоляции.
Немецкие евреи и прочие немцыВ ходе Второй мировой войны нацисты и их сообщники убили 6 миллионов евреев, 3 миллиона советских военнопленных, 500 тысяч цыган и 9 миллионов гражданских нееврейского происхождения – преимущественно русских, украинцев и поляков71. Подавляющее большинство жертв были из Центральной и Восточной Европы. Немецкие пленные тоже погибали в советских лагерях, но это происходило, как правило, из-за того, что перед этим немцы уничтожили урожай или же были истощены и больны в момент пленения, как 100 тысяч солдат под Сталинградом, из которых выжило только 5 тысяч. Советы не уничтожали немецких пленных намеренно, так как были заинтересованы в их труде. Немецкая же стратегия, напротив, сводилась к преднамеренному убийству. Газовые камеры Аушвица стали кульминацией той вакханалии, этапами которой были умерщвление газом инвалидов в немецких госпиталях (впервые опробовано в рамках “Операции Т4” в январе 1940 года) и в автофургонах в захваченном Вартегау (Польша), а также казни, осуществленные Einsatzgruppen выстрелом в голову на востоке (“холокост пуль”). Но первые 5 тысяч евреев были убиты газом в замке Графенек под Штуттгартом и в Бранденбурге-на-Хафеле недалеко от Берлина72. В авангарде насилия были СС, но такое число убийств было бы невозможно без более или менее непосредственного содействия регулярной армии, которая помогала с логистикой, с захватом пленных, а также с казнями. Например, в Беларуси было убито 1,6 миллиона пленных и гражданских, причем половина из них – армейскими частями73. К концу войны нацисты истребили две трети европейских евреев, включая евреев Германии.