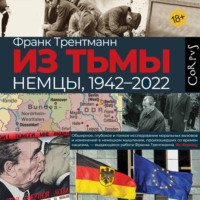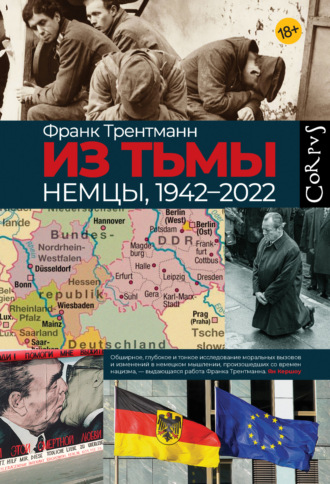
Полная версия
Из тьмы. Немцы, 1942–2022
Чтобы совершить убийство, не нужно быть молодым нацистом с промытыми мозгами. И не все зверства совершались солдатами, успевшими повоевать на Восточном фронте; так, никто из состава дивизии “Герман Геринг”, убившей 29 июня 1944 года в Тоскане 250 невинных мужчин, женщин и детей, не воевал на востоке126. Но когда присутствовал хотя бы один из этих факторов, вероятность появления преступников тут же возрастала; имело значение и то, что большая часть солдат, участвовавших в тосканской бойне, была молодыми сорвиголовами. Социальное давление также играло роль в нагнетании насилия. Как правило, нужны были особенно порочные командиры вроде Рёзера, чтобы организовать остальных. Но война последовательно снижала нравственный порог – как только стало нормой устраивать облавы на евреев и расстреливать их, оставался небольшой шаг до убийства мужчин-гражданских; после того как стало нормальным убивать мужчин-гражданских, оставался небольшой шаг до убийства женщин и детей. СС и Waffen-SS отличались особой жестокостью, но и элитные части регулярной армии, такие как танковые и горнопехотные дивизии, также зверствовали. Они питали отдельную ненависть к партизанам – нерегулярному врагу, подрывавшему их самооценку. Восточный фронт был особенно жестокой школой насилия, но некоторые были более усердными учениками и сильнее остальных стремились убивать.
Убеждения всего не объясняют, но и сбрасывать их со счетов было бы серьезной ошибкой. Верующие католики и старые солдаты могли взять на войну свои нравственные убеждения или успеть повзрослеть, прежде чем Гитлер пришел к власти, поэтому они чаще видели отражения своих лиц в глазах детей и женщин неприятеля. Заразный антисемитизм и антибольшевизм означали, что многие с момента своего прибытия смотрели на жителей Восточной Европы как на чуждых и опасных недолюдей и видели в каждой деревне, в каждом поле рыскающих врагов – расовых и идеологических127. Это коренным образом отличалось от немецкого восприятия Франции или Северной Африки и имело серьезные последствия в смысле отношения к соответствующим неприятелям.
Во время войны и сразу после ее окончания многие солдаты и офицеры, чтобы оправдать зверства, говорили о “военной необходимости”. Многие преступники не воспринимали себя как убийц. Но на самом деле это было самосбывающимся пророчеством, а не ответом на объективно сложившуюся ситуацию. Казни, репрессии и голод оказывались “необходимостью” из-за предшествовавшей им идеи о том, что еврейские и “азиатские” враги замышляют крушение Германии. Идеология узаконивала действие. Это было важно не только для психологической самооценки преступников. Это позволяло им переложить вину на жертв128.
Далеко не все немцы с готовностью становились преступниками. В нескольких случаях немецкие офицеры не подчинялись приказам и придерживались общепринятых правил ведения войны. Один из подобных драматических случаев произошел в сентябре 1942 года: Вернер Хартенштайн, командир подводной лодки U-156, начал спасательную операцию, узнав, что на только что потопленном лодкой транспорте “Лакония” находилось 2 тысячи гражданских лиц и военнопленных; хотя ему и оказавшимся поблизости немецким подлодкам пришлось прекратить операцию из-за атаки американских бомбардировщиков, все же около тысячи человек удалось спасти. Но на общем фоне все это было редким исключением. Неделю спустя адмирал Карл Дёниц приказал больше не спасть вражеских солдат129. В апреле 1944 года на Корфу произошло драматичное событие: комендант острова Эмиль Йегер пытался остановить депортацию местных евреев; он доказывал, что это разрушит “нравственный авторитет” оккупантов среди местных жителей. К июню всех евреев Корфу вывезли в Аушвиц130. Но даже в концлагере оставался выбор. Фриц Брингманн был младшим сантехником и санитаром (Sanitäter) в лагере Нойенгамме под Гамбургом. В 1942 году он получил приказ сделать смертельные инъекции советским пленным, больным тифом. Но отказался, и его оставили в покое.
После войны преступники на суде в Нюрнберге как один прибегали к концепции Befehlsnotstand: их руки, говорили они, были связаны, а неподчинение приказу было бы самоубийством. Нам придется провести разграничение между необходимостью предполагаемой – субъективным страхом того, что за неповиновением последует наказание, – и объективной. В свете возрастающего числа казней пораженцев и дезертиров чувство предполагаемой необходимости может быть вполне правдоподобным; подчиненные Рёзера, конечно же, знали о том, что он наказал солдата за отказ расстреливать женщин131. Брингманн в 1946 году рассказывал на суде, что он ожидал наказания и удивился, когда его не последовало. И все равно число людей, понесших серьезное наказание за отказ совершить убийство, было ничтожно малым. Например, в июле 1942 году офицер запаса Альберт Баттель пытался помешать облаве СС на евреев в Пшемысле в Юго-Восточной Польше, эвакуировал нескольких из них и определил под защиту армии; опять же Баттель, хотя и присоединился к нацистской партии в 1933 году, принадлежал к старшему поколению. Он родился в 1891 году, был католиком и юристом и до войны получал выговоры за дружбу с евреями. Гиммлер был в гневе и обещал арестовать его в тот момент, когда война закончится. Но вместо этого в 1944 году Баттель вышел в отставку по причине болезни сердца132.
Изучение восьмидесяти пяти дел показывает, что для сорока девяти человек отказ совершать убийство не имел совершенно никаких последствий. Пятнадцать человек отделались выговором или угрозой концлагеря (оставшейся на словах). Четырнадцать перевели в другую часть или отправили обратно в Германию. Семерым отменили повышение в звании. Пятеро на некоторое время оказались под домашним арестом. Четверых заставили рыть ямы или стоять в оцеплении. Трое вышли в отставку. Еще троих перевели в более опасные части. И лишь одного отправили в концлагерь, но даже здесь угрозы для жизни не последовало. Это был случай обер-лейтенанта Клауса Хорнига, командира полицейского батальона 306 в городе Замосць в октябре 1941 года. Он сказал своим подчиненным, что расстрел 780 беззащитных русских пленных был бы нарушением законов войны и повторением методов советской тайной полиции. Он не желал иметь с этим ничего общего. И он тоже был католиком и юристом. Расстрел взяла на себя другая часть. Хорнига отправили в Бухенвальд, но не как обычного заключенного; он находился под арестом на время расследования и продолжал получать свое офицерское жалованье. В конечном счете его приговорили к пяти годам тюрьмы. Его преступлением был не отказ убивать, а деморализация войск посредством произнесения перед солдатами речи об их праве отказываться исполнять незаконные приказы. 11 апреля 1945 года его освободили американцы133.
Большинство этих дел связано с офицерами, которые имели представление о военном праве. Несколько из них просили о переводе из концентрационного лагеря или Einsatzgruppen во фронтовую часть. Другие стреляли мимо или позволяли еврейским пленникам сбежать. Записи неполны и не позволяют реконструировать мотивы этих офицеров – почти половина из них не дала конкретного объяснения своим действиям. У тех, кто находил его, сочувствие к жертвам не всегда преобладало. Пятнадцать человек оправдывали свои действия тем, что приказы были незаконными. Для семерых расстрел противоречил их представлениям о воинской чести. Еще семеро говорили о нервном расстройстве. Двое переживали из-за политических последствий. Только двадцать три приводили нравственные доводы – частью религиозные, частью гуманистические, – и даже здесь порой присутствовали специфические личные факторы, пробуждавшие совесть, а не уважение к жизни как таковой. Один солдат говорил, что отказался убивать женщин и детей потому, что думал о своей жене и детях. Другой не смог нажать на курок, так как знал одного из евреев, выведенных на расстрел.
Трагический вывод состоит в том, что нацистам не нужно было запугивать солдат, чтобы устраивать массовые казни. При желании отказаться от участия в преступлениях могли бы и многие другие, и их жизни ничего бы серьезно не угрожало. Некоторые солдаты действительно могли бояться возможного наказания, но были и другие, не менее важные факторы: широко распространенное убеждение в том, что приказ есть приказ и его нужно выполнять вне зависимости от его преступного смысла; вера в нацистское руководство, антисемитизм, социальное давление и страх оказаться изгоем.
Страшный выборКонцентрационные лагеря представляли собой особую вселенную, полную насилия, противостоять которому было трудно всем ее обитателям – как заключенным, так и охране. Насилие было повседневной валютой концлагеря, распределявшейся через иерархическое разделение труда от лагерной администрации наверху до Kapos (уполномоченных заключенных) внизу, державших других заключенных под контролем134. Цементная фабрика в Голлешау (Голешув) была одним из лагерей-сателлитов Аушвица и сценой для особенно гнусного дуэта, демонстрирующего, насколько легко насилие вырастает до садизма. Комендантом лагеря был Иоганнес Мирбет, Kapo – Йозеф Киршпель. Мирбет, родившийся в Мюнхене в 1905 году, происходил из семьи ремесленников и был опытным плотником. В 1931 году он вступил в СС и в нацистскую партию. В начале 1941 года он стал охранником в Аушвице. Два года спустя, в апреле 1943-го, Рудольф Хёсс назначил его комендантом Голлешау. Киршпель, бывший девятью годами старше, также происходил из семьи ремесленников, но попал в криминальную среду и прошел путь от мелкого воровства до вооруженного ограбления. Скитаясь по тюрьмам в 1920-х, он закончил с “зеленым” значком как заключенный-уголовник в нацистских концлагерях – сперва в Бухенвальде и Флоссенбюрге, затем, с осени 1942-го, в Голлешау, где быстро поднялся до уровня лагерного Kapo. Одной из задач Мирбета было повышение производительности труда в лагере. Согласно послевоенным судебным документам, сначала Мирбет улучшил стандарты питания и остановил казнь пятерых евреев, среди которых были каменщики, требовавшиеся для работ за пределами лагеря. Это, однако, не продолжалось долго. Малейшее нарушение дисциплины приводило Мирбета в ярость. Он высек одного еврея до потери сознания, серьезно повредив ему позвоночник и почки, просто за то, что тот сушил свое белье в неположенное время. После вечерней переклички Мирбет обычно избивал заключенных, пока сам не уставал – тогда он передавал их Киршпелю. Мирбету особенно нравилось показывать Kapo, как надо пороть, сгибая колени, чтобы увеличить силу удара плети – тогда она рассекает кожу. Мирбет также расстреливал некоторых заключенных. И еще он отбирал заключенных, не способных работать, для лагеря смерти по соседству. В 1953 году суд приговорил Мирбета к шести годам, а Киршпелю дали пожизненное. Как постановил суд, Киршпель всегда обладал криминальными наклонностями, но Мирбета сделал преступником национал-социалистический режим135.
Без сомнения, Киршпель был садистом, но еще он был Kapo и заключенным, получавшим приказы от Мирбета. Конечно, Голлешау, как и вся лагерная система, не были созданием Мирбета. С другой стороны, входя в ворота лагеря, тот был свободным человеком, в отличие от заключенных. Мирбет в 1931 году сам принял решение примкнуть к СС. При желании он мог бы отказаться от назначения в Голлешау и отправиться на фронт. Очевидно, что Мирбет выбрал место, проникнутое насилием, со своими правилами и пороками. И столь же очевидно, что он был пламенным сторонником режима, открыто практиковавшего насилие. Голлешау не мог бы существовать без таких, как Мирбет.
СС правило лагерями через насилие и стратегию “разделяй и властвуй”. Большинство аспектов лагерной жизни, от рабочей дисциплины до медицинского обслуживания, регулировалось самими обитателями лагеря; так, в Голлешау на 2348 заключенных приходилось всего 52 эсэсовца. Это создавало для заключенных множество трудностей нравственного порядка. Привилегированное положение – такое, как Kapo, – в канцелярии или лазарете открывало доступ к менее опасной работе, более качественной пище и необходимой медицинской помощи для себя и друзей, что выливалось в разницу между жизнью и смертью. С другой стороны, стать инструментом в руках нацистов означало продавать дьяволу души других заключенных и свою собственную. Выбор был исключительно тяжелым, но не невозможным. Люди шли разными путями сквозь эти тернии, полагаясь отчасти на собственную силу воли и социальные связи, отчасти на нравственное чувство того, что правильно, а что нет. В процессе разница между жертвами и преступниками становилась не такой отчетливой.
В отличие от Киршпеля, у которого был “зеленый” значок, многие Kapo носили “красный”. Они были политзаключенными, часто – коммунистами. Для лагерной администрации это было выгодно по многим причинам: немецкие коммунисты были хорошо организованы, говорили на их языке и, хотя и были идеологическими врагами, оставались в расовом отношении превосходящими еврейское и славянское население; к концу 1944 года в Бухенвальде находилось 59 тысяч заключенных, из которых только 5 тысяч были немцами.
Привилегированное положение “красных” Kapo открывало им возможности для сопротивления внутри лагеря. Один из способов заключался в том, чтобы поместить своих товарищей в госпиталь, подменив ими реальных пациентов. Гельмут Тиманн был санитаром в лазарете в Бухенвальде. Сразу после окончания войны в объяснительной записке в коммунистическую партию он рассказывал о мотивах своих поступков и поступков его товарищей: “Эсэсовские врачи убивали [больных], и нескольким товарищам, включая меня самого, приходилось им ассистировать”. Сначала он сопротивлялся, но – “после того, как партия указала мне на необходимость этих заданий, мне пришлось действовать соответственно”. Для “красных” Kapo выбор был прост. Они могли отказаться от работы и остаться “чистыми”, но это сделало бы их “косвенными убийцами своих товарищей”. “Поскольку мы ценим своих товарищей выше остальных, нам пришлось кое в чем пойти на сотрудничество с СС, уничтожая безнадежно больных и окончательно обессилевших”. Коллаборационизм открыл им особые возможности и позволил назначать лечение исключительно своим товарищам из разных стран. Что же касается всех остальных: “нам пришлось быть беспощадными”136. Структурное насилие определяло повседневную жизнь лагерей и было частью замысла нацистов: работа была каторжной, еда и гигиена недостаточными, медицина – убогой. Коммунисты были жертвами в этой паутине насилия. Их возможности были весьма ограничены. Однако то немногое, чем они располагали, они использовали в соответствии со своей моральной шкалой. Для нацистов Volk был всем, а индивид – ничем. Для коммунистов всем была Partei. Некоторые жизни – евреев, цыган, гомосексуалистов и уголовников – были менее ценными, чем другие.
Кларе Пфёрш было тридцать, когда в 1936 году ее арестовало гестапо. Она была коммунисткой и полжизни проработала на ткацкой фабрике в Баварии. Хотя поначалу с женщины сняли обвинения в принадлежности к Сопротивлению, ее продержали за решеткой до 1940 года, когда народный суд обвинил ее уже в передаче секретных сведений любовнику-чеху. В 1941 году ее отправили в Равенсбрюк, концлагерь для женщин и детей к северу от Берлина. За год она поднялась до положения старосты лагеря и охранницы. В октябре 1942-го ее перевели в Аушвиц-Биркенау, где она опять вскоре стала старостой, или главным Kapo. Здесь она заразилась тифом и провела три месяца в тюремном блоке за нарушение лагерного распорядка. Летом 1944-го ее перевели в лагерь Гейслинген. Сперва, еще в Равенсбрюке, Клара была незаметной. Она отказывалась передавать надзирателям доносы, спасая товарок-заключенных от серьезных наказаний. Но потом она начала бить заключенных без всякой видимой причины. К осени 1942 года она получила прозвище Лео за вспышки ярости, и ее стали бояться. Она заставляла заключенных бегать, держа тяжелые камни в вытянутых руках, или часами приседать со связанными коленями. В Биркенау она содействовала эсэсовцам в отборе заключенных для газовых камер, указывая на женщин, не способных работать, или на тех, от кого ей хотелось избавиться, включая попадавших в лазарет из-за ее побоев. 29 мая 1949 года французский суд приговорил Клару как “bête humaine” (зверя в человеческом обличье) к смертной казни за убийство. Через год приговор заменили пожизненным заключением на том основании, что она женщина. В 1957 году она уже освободилась137
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Пер. П. И. Вейнберга.
2
В русском переводе – “Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке”. – Здесь и далее прим. пер.
3
Пер. В. Левика.
4
Бомбардировщик de Havilland DH.98 Mosquito.