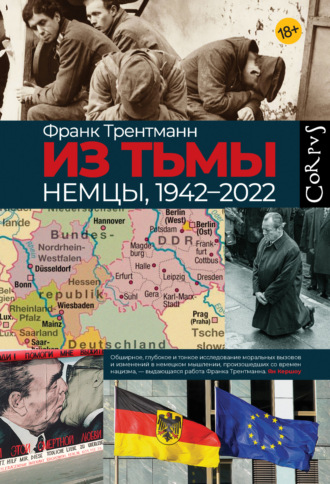
Полная версия
Из тьмы. Немцы, 1942–2022
Патриотизм и страх перед большевиками заставляли Тьядена поддерживать продолжение войны, но он начал различать “справедливую” войну и войну нацистов. И одновременно дистанцироваться от нацистов в повседневной жизни. В феврале он перестал носить значок нацистской партии. 20 апреля 1943 года, в день рождения Гитлера, Тьяден решил, что больше не поднимет флаг со свастикой, раз его сын пропал без вести на фронте. Двумя неделями позже он отказался работать на Sicherheitsdienst СС. К сентябрю 1944-го он убедил себя, что всегда относился к внешней политике Гитлера “с величайшим недоверием”, а отношение фюрера к евреям вызывало у него “величайшее отвращение”. Ради того, чтобы удержаться у власти еще несколько дней, нацисты готовы пожертвовать всей нацией. И ему не хотелось жертвовать собой ради этой банды. Он стер из своей памяти то время, когда он восхищался Гитлером и писал доносы в тайную полицию. Он, как и все прочие немцы, был жертвой нацистов, а не коллаборантом16.
Едва ли в Германии нашлась бы семья, где бы не знали кого-то погибшего или пропавшего без вести под Сталинградом. Это не было единичным трагическим событием, которое, раз случившись, остается в прошлом. Но битва изменила взгляд целого поколения на настоящее и будущее. Когда 12 мая 1943 года пал Тунис, люди заговорили о “Тунисграде”. В этот раз в плен попало четверть миллиона немецких и итальянских солдат, и эта битва стала решительным поражением стран “оси” в Северной Африке. С ухудшением положения на фронтах только немецкий черный юмор становился все лучше. Через день после Туниса Тьяден записал популярную шутку. Сосед спрашивает жену: “Знаешь, какая шутка самая короткая? – Wir siegen (Мы побеждаем)”17.
Реакцией нацистов на Сталинград было переключить внимание на евреев и открыто потребовать их уничтожения. 18 февраля 1943 года Геббельс в своем страстном призыве к тотальной войне предъявил немецкому народу радикальный диагноз ситуации и столь же радикальные ответные меры. Он говорил толпам, собравшимся в берлинском Sportpalast, что Сталинградская битва выявила то, что они давно знали: “Большевизм обратил 200 миллионов человек в орудие «еврейского террора», готовое наброситься на Европу”. У большевизма одна цель – “мировая еврейская революция”. Евреи же распространят свою “капиталистическую тиранию” на весь мир. Это будет означать обращение в рабство всех немцев и конец западной цивилизации. Евреи – это “заразная болезнь”. В порыве страсти Геббельс призвал к их “полному и радикальному истреб… [vollkommener und radikalster Ausrott…]”, но поправился и произнес слово “устранение” (schaltung)18. Фюрер, сказал он, был совершенно прав в том, что эта война разделит всех “не на победителей и побежденных, но на выживших и тех, кто будет истреблен”. “Время требует тотальной войны”. Пора “снять перчатки и сжать кулаки”. Толпа, согласно официальным сообщениям, отвечала “громовыми аплодисментами”. Десять дней спустя нацисты арестовали остававшихся в Берлине несколько тысяч евреев, включая большинство тех, кто состоял в смешанном браке. Их немецкие мужья и жены вышли протестовать на Розенштрассе, где они содержались, и добились того, что 2 тысячи были освобождены. Однако 7 тысяч все-таки отправили в Аушвиц19. В лагере Бреендонк в Бельгии охранники СС бросили восемнадцать евреев и двух заключенных-“арийцев” в воду и избивали их до тех пор, пока те не утонули – в качестве наказания за Сталинград20.
Еще до речи Геббельса слухи о зверствах уже были широко распространены, однако они не подтверждались официально. Своей оговоркой об истреблении евреев Геббельс сделал всех немцев открытыми соучастниками убийства21. В отличие от некоторых своих современников, Тьяден ничего не говорил о депортации евреев из Германии, которая всерьез началась осенью 1941 года. Сам он впервые услышал о массовых убийствах в 1942-м. В июне этого года его бывшая ученица Гретель прибыла из Украины. Она рассказывала, что там было “уничтожено” 6 тысяч евреев. “Проклятое время!” – записал в дневнике Тьяден и спросил себя, что сказал бы Бог об “истреблении еврейской расы”. Два месяца спустя его сын Энно писал из Лемберга по пути на Восточный фронт: “Я рад, что не несу ответственности за все, что здесь произошло” – скрытый намек на массовое убийство детей и депортацию 40 тысяч евреев в Белжец. Новость не нашла комментария в дневнике отца.
25 февраля 1943 года, в годовщину создания НСДАП, Тьяден включил радио и услышал выступление Гитлера, призывавшего к “уничтожению мирового еврейства”. “Почему он не может помолчать о таких вещах! – взорвался Тьяден. – Как будто он не нажил себе достаточно врагов, и в то самое время, когда он не может спасти от уничтожения свой собственный народ… И ради подобного нам надо жертвовать сыновьями!”
Раздражение Тьядена показывает начавший тогда развиваться вид моральных рассуждений. Объявив всему миру о своем стремлении уничтожить всех евреев, Гитлер вынудил союзников в отместку сражаться еще отчаяннее. Тьяден знал, что массовые убийства были и до Сталинграда. Но после Сталинграда они стали угрожать жизням самих немцев.
Нацистский миф о солдатах Сталинграда как о героях, которые предпочли смерть пленению, препятствовал распространению любых сведений, противоречивших такой картине. В информационном вакууме роились слухи о судьбе оставшихся в живых. Может быть, не все солдаты погибли или покончили с собой, но кто-то попал в плен? Может быть, их советские тюремщики не были воплощением зла? Немногие письма из Советского Союза сумели миновать сети нацистской цензуры. Родители получали послания с крупицами сведений о своих сыновьях от их товарищей, которым удалось эвакуироваться. (Находились и мошенники, распространявшие лживые свидетельства о своих якобы однополчанах.) Родители пытались добыть хоть какую-то информацию через Турцию, Японию и Швейцарию.
Многие чувствовали в тираде Геббельса естественный выход своему горю: они жаждали мести. Коль скоро евреи стояли за спиной большевиков, всех евреев, находившихся у немцев в руках, нужно было убить. Или, по крайней мере, немцы должны были угрожать убить всех евреев, если немецким пленным причинят какой-то вред.
Другие, тем не менее, пришли к диаметрально противоположным выводам. Необычен случай терапевта Кристиана Шёне, руководившего небольшим полевым госпиталем во Франкфурте-на-Одере, на границе с оккупированной Польшей. Его младший брат Конрад был среди пропавших без вести под Сталинградом. Их отец был лютеранским пастором. Сам Кристиан воевал в Первую мировую войну, был военнопленным в Сибири и получил высокие награды. Весной 1943 года он вступил в неформальное сообщество, которое распространяло новости среди родственников солдат, пропавших без вести. Он также писал в министерство иностранных дел, предлагая разрешить советским военнопленным отправлять письма домой с тем, чтобы Москва сделала ответный жест. В день рождения брата, 3 мая 1943 года, Кристиан распространил среди товарищей письмо, в котором шел еще дальше. Надежный источник сообщил его брату, что в Киеве немцами было убито 64 тысячи евреев, “и не только мужчин, но и женщин и детей”. Захоронение их тел было организовано настолько плохо, что, когда сошел снег, повсюду обнажились груды трупов. Кристиан писал, что сам лечил эсэсовца, которого мучили ночные кошмары и который размышлял, что “сто пятьдесят казней в день – это, наверное, чересчур”. Кристиан заключал, что “нашим пленным придется заплатить за это”. Родственники должны осудить эти расстрелы, и это станет “актом нравственности и чести”. Он рассматривал возможные возражения: не будет ли это чрезмерным вмешательством? Что, если прекращение убийств евреев никак не скажется на судьбе немецких пленных? Но отмел их как несущественные. “Никогда не поздно остановить то, что неправильно с нравственной точки зрения, и способствовать этому было бы делом чести”. Кристиан призывал другие семьи писать в нацистскую партию и министерства петиции с двумя требованиями: передать военные операции в руки “ответственных экспертов” и остановить убийства евреев.
Два получателя немедленно вернули письмо с примечанием, что они не согласны. Шёне арестовали. В ноябре 1943 года военный трибунал приговорил его к году тюрьмы за подрыв воинской морали (Wehrkraftzersetzung) – очень мягкое наказание по меркам того времени. В приговоре судья отметил, что Шёне был “мечтателем”, “утратившим связь с реальностью”, но счел тревогу за брата “мотивом, достойным уважения”.
Кристиан Шёне пережил войну. Летом 1947 года его брат наконец сумел отправить ему весточку из сибирского лагеря. Однако парой месяцев раньше доктор Кристиан Шёне умер22.
Шёне был одним из 30 тысяч, осужденных за деморализацию армии во время войны23. После Сталинграда недовольство быстро росло, обнажая существующее в немецком обществе напряжение. Но по мере того как “пораженцев” становилось больше, больше становилось и доносчиков. Гестапо вовсе не было всесильным, как обычно считают. В действительности оно было весьма малочисленным: так, например, в Нижней Франконии, регионе с 840 тысячами жителей вокруг Вюрцбурга, в отделении нацистской тайной полиции было всего лишь двадцать два сотрудника; ее способность внушать страх основывалась на том, что немцы сами шпионили друг за другом. И доносчиками были вовсе не болтливые женщины (это второй стереотип): три четверти из них были мужчинами, в большинстве своем обычными немцами, которые упрямо отказывались принимать происходящее на фронте25. Окончательная победа будет за ними! Гитлер не может не быть прав! Разоблачение внутренних “врагов” (Volksfeinde) было одним из способов поддерживать это убеждение и представление о себе в неприкосновенности. Они рождали чувство собственной важности, исполнения национального долга. В конце концов, разве пораженчество не было предательством народа, как говорил Роланд Фрайзлер, президент Volksgerichtshof (особого нацистского народного суда) с августа 1942 года? Чем более вера в победу превращалась в навязчивую идею, тем шире была интерпретация пораженчества. В 1943 году солдат в увольнении сказал соседу, что войну не выиграть. Трибунал приговорил его к двум годам тюрьмы и к последующей службе в Strafbataillon 999, печально известной штрафной части, которую посылали на самые рискованные фронтовые операции; во время одной из них, на территории Польши, он и погибнет. Подчиненные доносили на начальников, говоривших, что русские всех убьют. Другие изобличали тех, кто задавался вопросом о том, что Германия делает на востоке, или требовали, чтобы пораженцев отправляли в концентрационные лагеря (Konzentrationslager, или KZ). С ухудшением фронтовой обстановки росло число смертных приговоров. В течение 1941 года Народный суд вынес 102 смертных приговора. В 1943-м, под руководством кровожадного Фрайзлера, было приговорено 1662 человека.
“Гоморра”: наказание за что?Бомбардировки городов с воздуха в 1943 году не были чем-то новым26. Люфтваффе бомбило Варшаву в конце сентября 1939-го, британские ВВС в мае 1940-го бомбили заводы и нефтеперерабатывающие предприятия Рура. 7 сентября 1940 года Германия начала операцию “Блиц”, сбросив бомбы сперва на Лондон, а затем, 14 ноября 1940 года, – на Ковентри. Между Рождеством 1940 года и Новым 1941 годом Лондон подвергся еще одной волне массированных бомбардировок. Можно было бы предположить, что рассказы о бомбежках “потрясли людей до глубины души”, записывал в дневнике Рудольф Тьяден. “Куда там! Все настолько привыкли к ним, что почти не обращают внимания”. Бомбардировки немецких городов изменят эту ситуацию.
Первый авиаудар по Гамбургу случился в ночь с 17 на 18 мая 1940 года. Впервые авиация союзников осмелилась бомбить большой немецкий город. Погибло тридцать четыре человека. В течение следующих трех лет бомбардировки Гамбурга станут рутиной – 137 налетов, 1431 жертва27.
Масштабы операции “Гоморра” были совершенно другими. Пятидесятилетняя Рената Бок из Гамбурга вела дневник, чтобы рассказать потомкам, “что нам пришлось выдержать”. В ночь с 24 на 25 июля 1943 года ее разбудил первый налет. Следующий, 28 июля, оказался в десять раз хуже. В 22:30 прозвучала воздушная тревога. Стреляли немецкие зенитные орудия, а Бок и ее соседи бежали в подвал, чтобы укрыться там. Пол ходил ходуном. “Потом начался настоящий ад”. На ее улицу упали две зажигательные бомбы, и все загорелось. “Девятилетний соседский сын истошно кричит. Я прижимаю к своей груди восьмидесятилетнюю фрау Айгенброт. Мы стоим на коленях на полу; глаза у нас засыпаны пылью и побелкой, сердца колотятся”. Затем во время короткой передышки в их подвал забежала пара. “Женщина обезумела от страха!” Три дня назад ее засыпало в собственном подвале, так что пришлось откапывать. “Ее трясет, она рыдает”. Это было похоже на конец света28.
Авиабомбы срывали крыши с домов, а от зажигательных бомб начинался огненный вихрь, превращавший город в огромную печь. По улицам прокатывались волны пламени, сопровождавшиеся страшным жаром и высоким давлением. Член отряда по борьбе с воздушными налетами рассказывал о событиях, произошедших той же ночью в Хаммерброке, к востоку от старого порта. В многоквартирный дом, где он жил, попала зажигательная бомба. Вспыхнул третий этаж. Затем вторая бомба сбросила мужчину с лестницы. Пламя приближалось к газовому подвалу. Вся лестничная клетка рухнула, и пламя “устремилось вперед со скоростью 10 баллов по шкале Бофорта”, словно буря. Вместе с соседями они отчаянно пробивались к бомбоубежищу. Людям, находившимся там, грозила опасность задохнуться внутри или сгореть заживо снаружи. Напор огня был настолько сильным, что “трем мужчинам не удавалось захлопнуть дверь”. Рассказчик приказал людям закрыть головы пальто и одеялами и выбираться. Жильцы “доверяли мне, но не знали, что ждет их снаружи и как пробираться сквозь этот пылающий ад”. Он поспешил вернуться за остававшимися внутри женщинами. Старика с костылями пришлось бросить на произвол судьбы. Огонь бушевал на улицах. Вжавшись в стену школьного двора, группа простояла пять часов на коленях, до семи утра, пока огонь не унялся и жар не спал. Мужчина всеми силами убеждал людей оставаться с ним и ждать. Некоторые так и сделали, но другие ушли. “Утром я нашел их обгоревшие тела”29. Высокая температура (до 800 °C) и давление оставили после себя адскую сцену: одни тела превратились в угли, другие были раздуты до неузнаваемости, так, что мужские гениталии “стали размером с голову двухлетнего ребенка”30. В небе висело облако дыма высотой 8 километров, и пыль покрывала город. Солнца в тот день не было.
Геринг пообещал, что ни один вражеский самолет не появится в небе над рейхом. Годом ранее, в марте 1942-го, бомбардировщики союзников атаковали Любек, а в мае – Кёльн. Правда, это были единичные ночные атаки. Однако Сталинградскую речь Геринга дважды прерывали очень своевременные налеты британских “Москито”[4] – и это в Берлине средь бела дня! Безжалостная недельная бомбардировка Гамбурга убедительнейшим образом доказала полную незащищенность мирного населения. Ни люфтваффе, ни силы по борьбе с воздушными атаками не смогли его защитить. За гамбургской катастрофой последовали удары по Вене, Швайнфурту, Регенсбургу и другим городам. К марту 1944 года дневные налеты стали повседневностью, зимой же 1944–1945 годов их было больше всего.
В обстановке постоянных бомбежек люди яростно пытались навязать окружающим свое понимание происходящего. Их анализ сильно различался, и он раскрывает новую фазу поляризации общественного мнения и моральных суждений, от фанатичного ожесточения на одном конце спектра до переоценки ценностей на другом. Некоторые преподносили бомбардировки как доказательство невиновности Германии и призывали к отмщению. В середине июля, за несколько недель до операции “Гоморра”, сотрудник тайной полиции отмечал в своем отчете, что жители Гамбурга “некоторое время пребывают в убеждении, что вина в развязывании войны вообще и в бомбардировках гражданского населения в частности лежит на Англии. Поскольку англичане не отдают себе отчета в аморальности своих действий и не прекращают их, выход только один – безжалостное возмездие”31. Такими же были настроения в Берлине32. Это мнение разделяли и многие фронтовики. Хайнц Сарторио, служивший в 18-й танковой дивизии на территории России, писал своей сестре Элли в Берлин 7 августа 1943 года: “То, как ужасно обращаются с мирными жителями Германии, приводит меня в ярость. Надеюсь, что возмездие не заставит себя ждать, пусть даже оно обратит в руины всю Европу. Если люди не могут ужиться друг с другом, им приходится друг друга убивать”. Чувство, что война скоро будет проиграна, только усиливало в нем жажду мести. “Вот что меня заботит. Большевизм так или иначе победит”. Ранее, правда, он надеялся, что по Англии будет нанесен удар такой силы, что “через несколько дней никакой Англии не останется”33.
Проблема заключалась в том, что нанести ответный удар Германия была уже не в силах. Почти миллион жителей Гамбурга лишился крова и разносил по соседним областям отчаяние и пораженческие настроения. Правда, находились и те, кто верил в чудо-оружие, такое как ракета V-1, Vergeltungswaffe, или иначе – крылатая ракета возмездия. Однако ее первый запуск состоялся только в июне 1944 года и не вызвал ничего, кроме циничной насмешки. Шутили, что истинное название ракет было “Verrücktheit 1 [Безумие-1]… и нулевой эффект. В Лондоне лишь отменили один концерт”34.
Геббельс быстро понял, что играть на призывах к мести непродуктивно. Это вызвало бы надежды, которые авиация не могла бы оправдать. Начиная с декабря 1943 года он запрещал использовать слово “возмездие” в официальном обиходе. Неубедительными были и упреки в варварском характере бомбардировок, адресованные исключительно англичанам. Ведь союзники помимо бомб разбрасывали еще и листовки, напоминавшие немцам об их собственных бомбардировочных рейдах. Вместо этого нацисты решили объявить стойкость гражданского населения знаком вновь обретенной силы Volksgemeinschaft. Многие из тех, кто писал позднее, полагают, что травма, вызванная огненной бурей, была столь сильна, что лишила выживших дара речи35. Это миф. При таком числе погибших и масштабе разрушений люди неизбежно делились друг с другом своими горем и страхами. Ходили слухи, что погибла четверть миллиона человек (при том, что реальное число погибших было около 35 тысяч) и что силам полиции и штурмовикам СА пришлось подавлять восстание. Нацисты знали, что они не могут прекратить разговоры, но они могли попытаться повлиять на их направление.
Дым едва рассеялся, когда нацистская пропаганда принялась за дело. Она привлекала внимание к разрушенным церквям, отчасти для того, чтобы отвлечь от разрушенных доков и фабрик, работавших на войну, отчасти – чтобы подчеркнуть варварское уничтожение культурного наследия. 21 ноября 1941 года, в последнее воскресенье перед Рождественским постом, в традиционный день поминовения усопших у протестантов (Totensonntag), на площади Адольфа Гитлера перед гамбургской ратушей состоялся грандиозный митинг. Десятки тысяч стали свидетелями того, как проявления скорби перешли в призыв к борьбе до последнего, звучавший все громче и громче. Как сказал местный нацистский лидер, гауляйтер Карл Кауфман, бомбардировка была историческим испытанием, и жители Гамбурга с их ганзейским духом показали всем немцам, что они его выдержали. Она выявила лучшее, что в них есть: жертвенность, смелость и взаимовыручку. Смерть не была бессмысленной. Авианалеты, словно “пламя кузнечного горна”, сплавили индивидов в подлинное народное сообщество, сильное, как никогда раньше. Что же касается мертвых, “есть лишь один способ отблагодарить их за то, что они нам дали, – победа”36.
Если нельзя было наказать Англию, то всегда был враг в пределах досягаемости – евреи. Евреи были мишенью для мести с начала войны. После бомбардировок немецких городов их стали винить в страданиях невинных немцев – женщин и детей. Вупперталь, стоящий на реке Вуппер, на краю Рурской долины, подвергся массированным бомбардировкам в мае и июне 1943 года. Месяцем позже, в Зуле, на несколько сотен миль восточнее, среди местных рабочих стало ходить стихотворение. Оно называлось “Возмездие”: “Придет день, когда вуппертальское преступление будет сурово отмщено и вы в своих краях сломитесь под железным ураганом // Вы, убийцы, принесшие столько горя в этот город, убивавшие младенцев у материнской груди и стариков, // Мы живем лишь неистовой ненавистью к вам, вместе с прочими евреями, несущим на себе клеймо Вуппера”37. Повсюду люди рассуждали о том, что нужно было не изгонять евреев, а организовать в немецких городах гетто, которые служили бы живыми щитами для немцев38. Некоторые писали Гитлеру и Геббельсу, предлагая за смерть каждого “арийца” вешать или расстреливать десять или двадцать евреев39. Бесчеловечная фронтовая математика достигла тыла.
Других немцев бомбежки спровоцировали на рассуждения в совершенно ином моральном ключе. Многие верили, что бомбежки были знаком Божьего гнева, воздаянием за грехи немцев. Возможно, эта точка зрения не была преобладающей, но после бомбардировок она перестала быть маргинальной. В Гамбурге некоторые священники отмечали “чувство вины”, испытываемое их прихожанами40. Годом раньше, в марте 1942-го, лютеранский пастор в близлежащем Любеке объявил авианалет “наказанием свыше”. (Пастор был арестован, признан виновным в деморализации армии и казнен на гильотине.) 8 июля 1943 года секретная служба доносила, что берлинцы объясняют бомбардировку Кёльнского собора “наказанием свыше” за сожжение синагог в 1938 году41.
Далеко не все полагали, что их наказывает десница Господня, но все большее число людей трактовали свою судьбу как ответ на преследования евреев. “Безотносительно ярости в адрес англичан и американцев из-за их бесчеловечности в войне, – писал гамбургский коммерсант своему другу после операции «Гоморра», – нужно бесстрастно признать, что простые люди, средний класс и другие слои населения – как частно, так и публично – говорят о налетах как наказании за наше отношение к евреям”42. Члены небольших групп Сопротивления также рассматривали бомбардировки союзников как справедливое возмездие за депортацию их еврейских друзей. “Англичане отплатили за злодеяние массированным налетом на Берлин”, – записала в дневнике 2 марта 1943 года Рут Андреас-Фридрих, член подпольной группы “Эмиль”, прятавшей евреев в столице. События напомнили ей о гётевском “Ученике чародея”. “Метла, которая вымела евреев из Германии, больше не встанет в угол. Тот, кто вызвал духов, не сможет загнать их обратно”43.
Чувство соучастияТеперь мы знаем, что союзники бомбили Германию, чтобы сломить сопротивление в тылу, а не для того, чтобы отомстить за убитых евреев. Однако для многих немцев в то время одно было логически связано с другим. Донесения тайной полиции за 1943–1944 годы фиксируют множество подобных высказываний. В Швайнфурте, центре военной промышленности в Северной Баварии, местные жители говорили, что в августе 1943 года их бомбили в отместку за Kristallnacht – погром 1938-го. В Бад-Брюккенау, спа-курорте в северной части Рёнских гор, некоторые утверждали, что “все отношение к еврейскому вопросу” и его решение были “абсолютно неверными”. Теперь же “немецкому населению приходится платить за это”44. В ноябре 1943 года некий берлинец сформулировал то же самое в предельно лаконичной форме: “Знаете, почему наши города бомбят? Потому, что мы поубивали всех евреев”45.
Но кого он называл словом “мы”? Понять, насколько эти высказывания констатируют соучастие, – нетривиальная задача. Некоторые из упомянутых нами людей в Швайнфурте и Бад-Брюккенау могли утешаться такой мыслью: нас бомбят, потому что другие (нацисты) делали с евреями то, что мы никогда не одобряли. Неподалеку, в средневековом Ротенбурге-на-Таубере, в октябре 1943 года местный тренировочный центр нацистской партии жаловался на возрождение “сказочки о «хорошем еврее»”: многие полагали, что “партия обходилась с евреями слишком сурово и теперь они за это расплачиваются”46. Тем не менее сохранялось чувство того, что война была коллективным предприятием. Депортации стали последним шагом на пути к массовым убийствам, но им предшествовали дискриминация, исключение, грабежи и насилие. Все это происходило на глазах населения и нередко при его участии. Многие немцы к этому времени жили в домах, ранее принадлежавших евреям, спали в их постелях и ели с их фарфора. Поскольку война обернулась теперь против немцев, росло беспокойство и по поводу того, как евреи могут отреагировать на конфискацию их собственности.




