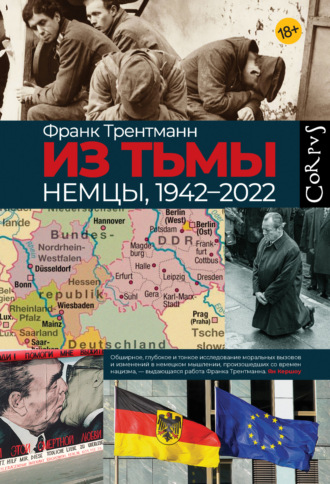
Полная версия
Из тьмы. Немцы, 1942–2022
В это время такие слова, как “немцы” или “немецкая мораль”, не были терминами, относящимися ко всему населению Германии. Нацисты исключили некоторых немцев из своего Volksgemeinschaft. В 1933 году в Германии проживало полмиллиона граждан еврейского происхождения. Большая часть их ассимилировалась, другие обратились в христианство. Они были гражданами, сражались в Первую мировую войну, преподавали в университетах, руководили предприятиями, шили одежду, лечили больных, слушали Баха и цитировали Гёте. Нюрнбергские расовые законы 1935 года, бойкоты, увольнения из государственных учреждений и исключения из общественных организаций шаг за шагом выводили их за рамки собственной нации. Во время Kristallnacht 9 ноября 1938 года был убит 91 еврей и 30 тысяч отправлены в концлагеря. К концу 1939 года родину покинули 300 тысяч немецких евреев; еще 117 тысяч уехали из Австрии. 100 тысяч из них переселились в соседние страны, которые были вскоре оккупированы нацистами. В общей сложности немцы убили 170 тысяч граждан еврейского происхождения. Большинство из них были депортированы в концлагеря. После освобождения лагерей в живых оставалось лишь 10 тысяч немецких евреев. Еще 20 тысяч ухитрились выжить, состоя в смешанных браках или скрываясь в подполье. В 1933 году Берлин был одним из крупнейших центров еврейской жизни, домом для 161 тысячи евреев. Через двенадцать лет из них были живы всего 8300 человек.
Эрнст Рихард Найссер родился в 1863 году в Лигнице (Легница) в Нижней Силезии в нынешней Польше, в семье ассимилированных немецких евреев. Окончив медицинскую школу, он со временем стал директором муниципальной больницы в Штеттине, где организовал новаторский туберкулезный госпиталь74. Найссер состоял в Гётевском обществе и был типичным немецким евреем, образованным и патриотичным. Он любил играть на фортепиано в четыре руки с дочерью, особенно Моцарта в переложении Бузони. В шестьдесят восемь лет он возглавил санаторий для сердечных больных в Глаце, в Нижней Силезии (ныне – Клодзко, Польша). Когда нацисты захватили власть, они заставили Найссера оставить это место, и он вместе с женой переехал в Берлин. 30 сентября 1942 года он получил приказ быть готовым к депортации, которая была назначена на восемь утра следующего дня. Его дочери удалось раздобыть шведскую визу, но в тот момент уехать было уже невозможно. У Найссера было слабое сердце, и он был готов скорее покончить с собой, нежели быть депортированным и погибнуть от рук убийц. К этому были готовы и он, и его сестра Лиза. Они позвали в его квартиру всех близких и любимых. Найссер достал бутылку необычайно хорошего вина, которую хранил для особого случая. Все сделали по глотку. Коллега из берлинского санатория подал ему яд, о котором он просил. Эрнст Найссер сказал, что не чувствует ненависти. Он прожил хорошую жизнь. Пора уходить75.
Когда утром за ним пришли гестаповцы, сестра Найссера была мертва, его же сердце еще билось, хотя сам он лежал без сознания. Его поместили в еврейский госпиталь. Он умирал четверо суток. На похоронах к его дочери присоединилось несколько оставшихся друзей-“арийцев”. Квартет из Государственной оперы сыграл “Ave Verum Corpus” Моцарта и “Komm süsser Tod” (“Приди, сладкая смерть”) Баха. Надгробную речь произнес пастор Исповедующей церкви, сам побывавший в тюрьме. Эрнст Найссер лежал в гробу, обернутый простым саваном. Гестапо украло его последний костюм и часы.
Годом ранее Найссер потерял свою жену Маргарете, происходившую из еврейской семьи Паули. Она также совершила самоубийство, которое стало следствием трех лет депрессии, начавшейся после Kristallnacht. Его невестка с двумя дочерьми были депортированы из Бреслау в 1941 году и погибли два года спустя в Терезиенштадте (Терезине) и Грюссау, одном из множества транзитных лагерей. Из живших в Германии уцелели только дочь Найссера и его внучка, защищенные браком дочери с немцем “арийского” происхождения.
История семьи Найссер показывает, как немецкие евреи реагировали на затягивавшуюся на их шеях удавку – по-разному, но равно трагическим образом. Самоубийства порой были результатом отчаяния и депрессии, как в случае жены Найссера, но часто они были продиктованы гордостью и независимостью, как в его собственном случае76. Здесь не столько личность утрачивала смыслы, сколько общество вокруг нее. Самоубийство было последним утверждением хорошо прожитой жизни и попыткой унести в могилу память о той Германии, которую они любили. Кончали с собой преимущественно пожилые евреи, менее мобильные и более укорененные в Германии; между 1941 и 1943 годами около 4 тысяч из них совершили самоубийство. Исключение и дискриминация лишили их репутации и званий так же, как и работы. С сентября 1941 года немецкие евреи должны были носить желтую звезду. К 1942 году антиеврейские меры с немецким патологическим вниманием к деталям уже повлияли практически на все стороны повседневной жизни77. С 15 мая 1942 года евреям запрещалось держать домашних животных. Месяцем позже еврейкам запретили покупать сигареты, кроме тех случаев, когда они состояли в привилегированном смешанном браке, где муж не был евреем. 19 июня они должны были сдать все электрические приборы, включая электроплитки. 7 июля были закрыты последние сохранившиеся еврейские школы, и немецким евреям было запрещено посещать кафе и залы ожидания на вокзалах. Через три дня им запретили посылать подарки депортированным. 13 июля слепым и глухим немецким евреям запретили носить привычные нарукавные повязки, призывавшие окружающих помогать им. Затем, в сентябре 1942 года, состоялась большая волна депортаций, которой Найссер избежал, покончив с собой. В начале октября всех евреев из концентрационных лагерей на территории рейха переместили в Аушвиц.
Матильде Бинг было пятьдесят три года, когда весной 1943 года она попыталась бежать в Швецию. Ее арестовали в Ростоке, на побережье Балтики, и отправили в главный транзитный лагерь в Берлине. 27 июня она написала двум своим сыновьям, которым удалось в 1939 году уехать в Англию: “Милые мои мальчики! Время пришло: завтра всех нас увезут. Вернусь ли я когда-нибудь, я не знаю”. Она “испробовала все возможное, чтобы выжить в этот раз”, и пообещала “продолжать”: “…только когда станет совсем страшно, я положу всему конец”. Ее поддерживало желание увидеть их снова: “В эти ужасные времена для меня было большим, а по сути – единственным, утешением знать, что вы в безопасности и счастливы за границей”. Говорили, что их повезут “в трудовой лагерь в Верхней Силезии, в Аушвиц, а оттуда – на работу в Биркенау или Моновиц”. “Прощайте. Я не могу продолжать, иначе расплачусь, а мне нужно оставаться сильной до конца… Целую… Мутти”. 9 июня 1943 года 39-й Osttransport прибыл в Аушвиц, где Матильда Бинг была убита. Ее муж разделил ее судьбу несколькими месяцами ранее78.
Немецко-еврейская семья Майер бежала в Нидерланды после Kristallnacht. В сентябре 1944 года они были депортированы из транзитного лагеря Вестерборк в Терезиенштадт в Богемии. В конце месяца их сыновей отправили в Аушвиц. Старший, двенадцатилетний Леопольд, писал родителям, чтобы успокоить их: “Могу гарантировать, что я справлюсь – неожиданности исключены. У меня талант закрываться от окружающего мира, подобно ежу, сворачивающемуся в клубок, чтобы защититься от враждебного окружения”. Он научился быть скромным. На самом деле он считал, что поднимается до испытания, которое ему предназначил Господь: “…внести свой вклад и поспособствовать тому, чтобы трагедия, которую сейчас переживает еврейский народ (Volk) и другие народы земли, не повторилась”. Он будет бодрым, будет впитывать добро, отвергать все зло и ждать, чтобы “распахнулись врата свободы”. Он убеждал родителей сохранять “веру и надежду, смелость и силу воли”: “Дорогие родители, пожалуйста, не хороните себя в слезах, но сохраняйте веру в наше воссоединение и в будущее… имейте силу жить ради нас, ваших сыновей, Chisku we imzu lanu [сделай нас сильными и всели в нас мужество – из покаянной молитвы]”. Едва прошел месяц, их отец был отправлен в Аушвиц и убит. Леопольд и его брат дожили до того момента, когда врата свободы действительно распахнулись – до освобождения Аушвица в конце января 1945 года. Но, как и тысячи других, они вскоре умерли от истощения в Дахау. Выжила только их мать79.
Стыд, сострадание, безразличие, страхК 1942 году о массовых расстрелах знали многие. Но едва ли кто-то, не исключая и такого проницательного наблюдателя, как Виктор Клемперер, автор книги “Свидетельствовать до конца”, мог сложить фрагменты в целостную картину геноцида. Клемперер, специалист по французской литературе XVIII века, был изгнан из Дрезденского университета, но уцелел благодаря жене-“арийке”. В своих дневниках он описал, как сжимался его мир в эти дни. И все же чем темнее было время, тем ярче сияли патриотические воспоминания некоторых евреев, которым еще удавалось уцелеть. В январе 1943 года он описывал встречу трех друзей: “Для всех троих Первая мировая война – величайшее и прекраснейшее событие. Они всегда вспоминают о ней как о приключении и коллективном опыте, который они разделили с немцами; тем не менее все трое гордятся тем, что остались евреями – как будто это было исполнение долга в кантовском духе!”80
Эскалация антисемитской пропаганды после Сталинграда и Гамбурга возымела эффект. В августе 1943 года “хорошо одетый и интеллигентно выглядящий” двенадцатилетний мальчик кричал на Клемперера: “Убейте его! Ты старый еврей, старый еврей!” Как и многие другие, Клемперер, которому был шестьдесят один год, в ситуации, которая становилась все более отчаянной, находил утешение в малых проявлениях доброты. Клемперера заставили работать на фабрике. Однажды он поднимал тяжелую упаковку чая. Подошедший рабочий-“ариец” помог ему: “Отдай это мне… у тебя силенок не хватит”82. Каждый новый акт виктимизации со стороны нацистов провоцировал поиск “хороших” немцев. И “арийцы”, состоявшие в смешанных браках, занимались этим с не меньшей страстью. Подобная персонализация часто закрывала глаза на соучастие государственного аппарата, системы правосудия и государственной службы в преследовании евреев – от их изгнания с государственных должностей до депортаций и массовых убийств. В Гамбурге вышедшая на пенсию учительница Луиза Зольмиц осаждала местные власти, хлопоча за мужа-еврея, и находила некоторое утешение у тех чиновников, которые хоть как-то сочувствовали ее положению: “Чем меньше мы будем чувствовать унижение от всего того, что с нами сделали, тем большее утешение сможем найти в доброте и дружелюбии хороших людей, которых мы узнали благодаря всему происходящему. Знать, что они есть, это большая удача на фоне такого множества потерь”83.
В 1933 году многие неевреи демонстративно шли к своему еврейскому доктору или юристу в пику нацистскому бойкоту. В последующие годы такие проявления солидарности стали сходить на нет. Эмпатия быстро иссякала. Нюрнбергские расовые законы 1935 года получили широкую поддержку, а во время Kristallnacht обычные немцы присоединялись к штурмовикам, чтобы избивать еврейских лавочников. Некоторых такое неорганизованное насилие возмущало – впрочем, эти люди переживали за судьбу жертв реже, нежели за целостность имущества, которое можно было бы конфисковать. Большинство же пребывало в пассивном спокойствии84. Когда в 1941 году начались депортации, некоторые приветствовали их, радуясь, что “все бесполезные рты” исчезли, и скупая по дешевке их добро на публичных аукционах. Единицы полагали, что относиться таким образом к пожилым евреям – слишком грубо и не по-христиански. В Гамбурге некоторые фирмы анонимно передавали депортируемым посылки с едой. Большинство, однако, просто наблюдало за этим85.
Осведомленность об ужасах никогда не была поголовной, но, без сомнения, была широкой. Еще 1 ноября 1941 года дипломат Ульрих фон Хассель отмечал “отвращение всех приличных людей в отношении бесстыдных мер” против евреев и пленных на востоке, а также против евреев в Германии86. Военные фотографировали казни и рассказывали о них своим родным, иногда – с одобрением. 16 ноября 1941 года двадцатишестилетний пехотный сержант Антон Бёрер писал сестре из Харькова в Украине, что евреев вешают в отместку за нападение на здание. Следовало быть “жестким и беспощадным”, объяснял он: “С евреями покончили очень быстро – так, как нужно это делать везде. Тогда этот ублюдочный народ [Mistvolk] наконец-то оставит нас в покое”87.
На Ганса Альбринга то, что он видел в Белоруссии, произвело более сильное впечатление. В марте 1942 года он писал своему другу из движения молодых католиков, что убийства стали более систематическими. Раньше людей просто расстреливали и бросали тела в кучу, но теперь, как он писал, их сортировали и пересыпали известью. Из своей пехотной части, расположенной под Днепропетровском в Украине, Ойген Альтрогге отвечал: “Вчера вечером мы сидели, обсуждая все вещи, из-за которых стыдно быть немцем… Это уже не имеет ничего общего с антисемитизмом. Это антигуманность… Когда-нибудь за это придется так расплачиваться! Когда я слышу об этом – да еще из первых рук, – меня охватывает отчаяние. Но что мы можем сделать? Держать язык за зубами и продолжать служить”88.
Для тех, кто оставался в тылу и был готов слушать, было множество каналов, сообщавших ужасные новости. Карл Дюркефельден работал инженером на машиностроительной фабрике в Целле в Северной Германии и записывал в дневнике то, что он слышал в 1942 году. В феврале солдат в поезде сказал ему, что “таких массовых казней в прошлую войну не было”. Несколько дней спустя ему попалось в газетной статье обещание Гитлера “уничтожить” евреев. В июне его зять, вернувшийся из Украины, рассказал, что после массовых казней, осуществленных немецкой полицией, евреев не осталось. Тогда же он услышал от других солдат, что уничтожались целые деревни, включая женщин и детей. В августе теща рассказала ему, как солдат говорил ей об убийстве 10 тысяч евреев в России. В октябре 1942-го коллега на работе сожалел о “бедных евреях”: по словам зятя Дюркефельдена, приехавшего с фронта, на Кавказе убили всех евреев, “в том числе беременных женщин, детей и младенцев”. В армии сведения о жестокостях распространялись настолько широко, что солдаты, как правило, не удивлялись, слыша о них89.
Примерно в это время немцы, которым было не все равно, начали шептаться об убийстве газом и о судьбе, ожидавшей евреев после депортации. “Ужасные слухи ходят о судьбе эвакуированных, – записывала в своем дневнике в декабре 1942 года Рут Андреас-Фридрих, – о массовых казнях и голоде, пытках и убийстве газом”90. Лагеря уничтожения – Аушвиц, Треблинка и другие – были на востоке, но признаки насилия стали распространяться все шире по территории старого рейха еще до маршей смерти последних месяцев войны. Например, в мае 1942 года гестапо организовало публичное повешение девятнадцати польских заключенных из концлагеря Бухенвальд на поле в Тюрингии на глазах нескольких сотен любопытных зрителей, включая женщин и девочек; это было местью за убийство немецкого полицейского и два предположительных случая связи между заключенными и немками91. Депортации 1941–1943 годов осуществлялись у всех на глазах. К этому времени Германия была густо покрыта сетью лагерей-спутников; при одном только Бухенвальде было 139 вспомогательных лагерей. Во многих городах присутствие заключенных было повсеместным, их использовали на самых опасных работах, таких как расчистка разбомбленных кварталов. Немногих счастливцев, которым, подобно Клемпереру, удалось избежать депортации, заставляли выполнять тяжелую работу на немецких предприятиях, и их ухудшающееся состояние не было секретом ни для “арийского” начальства, ни для коллег. С лета 1944 года венгерских евреев направляли из Аушвица в рейх для работы в военной промышленности.
Среди “арийцев” мало кто оплакивал судьбу своих соотечественников-евреев. Это говорит о многом. Исчезновение сочувствия демонстрировало как молчаливое признание причастности, так и страх расплаты.
Если люди проявляли какую-либо реакцию, это был стыд. Когда в сентябре 1941 года ввели ношение еврейской звезды, Андреас-Фридрих заметила, что дети на берлинских улицах открыто издеваются над евреями. Ее партнер поймал двоих из насмешников и надрал им уши: “Вам должно быть стыдно”. Свидетели одобрительно улыбались. “Почти все, кого мы встретили, – писала она, – недовольны новой мерой: им стыдно, как и нам”92. Но круг ее друзей и критиков вряд ли отражал общество в целом.
В своей первой листовке, распространенной в июне 1942 года, брат и сестра Ганс и София Шолль и их друзья-студенты, члены группы Сопротивления “Белая роза”, взывали к чувству стыда соотечественников, чтобы вывести их из “апатии”. “Каждый честный немец сегодня стыдится своего правительства”, – писали они. Они цитировали Шиллера, критиковавшего обычаи Спарты за то, что люди рассматривались как средство, а не цель, и заканчивали гётевским призывом “Свобода!”. Их христианская вера была для них так же важна, как гуманизм и кантовский разум. Стыд был связан с нравственным долгом защищать человеческое достоинство и свободу против “атеистического государства” нацистов. Борьба против нацистов, писали они, должна дойти до “метафизических” причин войны. “За всеми объективными логическими доводами проскальзывает иррациональный элемент, то есть борьба с демоном, с посланниками Антихриста”. “Гитлер, – писали они в более поздней листовке, выпущенной в январе 1943 года, – не может выиграть войну, он может только распространить ее”. Чувство вины и страх перед возмездием заняли теперь место стыда как средства вывести немцев из апатии. “Немцы! Хотите ли вы и ваши дети той же судьбы, что выпала на долю евреев?” – спрашивали они. Немцы должны пробудиться от глубокого сна, выступить против нацистов и вредить им, если не хотят, чтобы их судили вместе с их лидерами. Студенты верили в “свободу и честь” и в будущее союзное государство, которое сможет гарантировать свободу слова и совести и защищать граждан от преступного насилия. Больше всего они надеялись на духовное обновление. 18 февраля 1943 года Ганс и Софи Шолль были задержаны университетским вахтером во время раздачи экземпляров своей шестой листовки. Их передали в руки гестапо, приговорили к смерти и через четыре дня обезглавили93.
Андреас-Фридрих и студенты из “Белой розы” показали, что сочувствие было возможно даже в апогее власти нацистов, но их кружки Сопротивления были очень малочисленны. Заботой большинства немцев была война и то, как она на них влияет, а вовсе не судьба евреев. Начиная с 1960-х годов холокост считался центральным событием войны. Во время войны это было не так. Разговоры военнопленных, тайно записывавшиеся союзниками, показывают, что многие солдаты знали о массовых убийствах, даже если и не участвовали в них, но эта тема их попросту не интересовала94. Сейчас это нас шокирует, но с исторической точки зрения это понятно: шаг за шагом евреи все дальше выводились за пределы “народного сообщества”, пока им и вовсе не отказали в принадлежности к человеческому роду.
В лагере военнопленных Форт Хант в Виргинии американская разведка прослушивала разговоры немецких пленных. Записи показывают, что знания о зверствах были широко распространены, и демонстрируют нам срез идеологических предрассудков немецких солдат и те психологические стратегии, к которым они прибегали, чтобы примирить убийства евреев и прочих гражданских лиц с верой в то, что сами они ведут справедливую войну. Один из первых случаев обсуждения этой темы был записан 13 июня 1943 года в разговоре между Дрехселем, Майссле и Шульцем – тремя молодыми подводниками, взятыми в плен в Северной Атлантике. Дрехсель начал рассказывать о евреях из Литвы и Польши:
Д.: …Они опасные люди. Я казнил там евреев.
М.: Почему казнил?
Д.: Каждый немецкий солдат… (шепотом), с помощью немецкой полиции…
М.: Есть свиньи среди немцев, как и среди евреев, но есть же и хорошие евреи…
Д.: Уверен, что иностранцы тоже знают, сколько евреев было убито… шестнадцати-, семнадцати-, восемнадцатилетних. Их заставляли раздеваться до исподнего… а потом расстреливали. Они даже не знали, почему их расстреливали…
Д. (шепотом о лагере для интернированных евреев): Там была, мальчик мой, двадцатитрехлетняя беременная женщина, и ее тоже погнали на тяжелые работы. И четырнадцатилетних детей тоже.
М.: Скольких они расстреляли?
Д.: Это было невероятное число, и шестьдесят процентов – из Германии…
М.: Это несправедливо. Если мы проиграем войну, евреи заставят нас расплачиваться… В моем городе [Феринген в Швабии] евреев выкидывали из их лавок, брили еврейкам головы и водили в таком виде по улицам. Русские – нелюди, но и среди нас есть настоящие звери.
С.: Нас заставят заплатить за то, что мы сделали. Убили сотни и тысячи невинных людей, в том числе женщин и детей.
Д.: Что мы могли с этим поделать, дорогой?
С.: Были ли евреи виноваты в том, что их убили?
Д.: Нет, и это печальнее всего.
С.: Да, печально… [Но] Германия не по своей воле начала войну.
Д.: На нас напали коммунисты.
М.: Зачем?
С.: Ну, причин было много, и поэтому мы начали войну. У каждого великого народа должно быть право защищаться; если другие увидят, что кто-то не может дать им отпор, то они его уничтожат95.
Когда эти три подводника разговаривали, они, как и многие их товарищи, еще могли думать, что Германия в силах не проиграть. На заключительных этапах войны, когда вероятность поражения возросла, возросла и обеспокоенность по поводу возмездия за то, что немцы сделали с евреями. В разговорах между заключенными Форта Хант тема массовых казней возникала очень редко, но когда все же возникала, то инстинктивной реакцией на нее было отвращение, смешанное со стыдом и страхом. “Было ли это по-человечески?” – спрашивал один из них в начале апреля 1945 года, вспоминая, как женщины и дети копали себе могилы. “Тьфу, немцем быть стыдно! – добавил его товарищ. – Как это может сочетаться с Kultur – женщин! раздевать!” Другой признавался: “Мне было их жалко”. Но когда их сокамерник, верующий католик, заметил, что все они были соучастниками преступления, он ответил: “Никто не может в одиночку плыть против течения”96.
Если и случались проявления стыда, а порой и жалости, эти чувства заглушались страхом возмездия. Генрих Фойгтель был сыном протестантского пастора, выросшим в либерально-националистической среде в Тюрингии. В октябре 1944 года ему было двадцать восемь, и он после пребывания во Франции и России воевал на Апеннинах. В дневнике он записывал, как изменялось настроение в армии. Еще оставались отдельные фанатики, верившие в победу. Однако все больше и больше солдат было охвачено страхом за свои семьи и за то, что с ними произойдет, когда коммунистические банды начнут опустошать их родину. “Еще сильнее, – записывал он, – их страх перед евреями и поляками. Сейчас, перед лицом их экзистенциального страха, бремя прошлой несправедливости поднимается на вершины их сознания”. Отношение к евреям и полякам было “не только фатальной политической ошибкой, но человеческой несправедливостью, которая все сильнее отягощает национальное сознание”. Теперь Фойгтель постоянно слышал заявления вроде “коль скоро руки у них развязаны, они кое с кем рассчитаются” и “мы перегнули палку, это уже было не по-человечески” даже от членов нацистской партии, которые не осмелились бы произнести что-то подобное годом раньше97.
Несколько тысяч немецких евреев, сумевших избежать депортации, преимущественно пожилых, все больше зависели от маленьких групп акторов: жестоких нацистов с одной стороны и подпольной сети помощников – с другой. На следующий день после неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года в Берлине встретились электрик и водопроводчик и решили отомстить за покушение. Один из них был членом НСДАП с 1932 года, другой – вступил в СС в 1937-м. Руководитель их группы отказался в этом участвовать, но они решили действовать на свой страх и риск. Они явились к еврейскому портному Ф. и насильно привели его на мост через реку Панке, где кто-то нарисовал советскую звезду. Ф. приказали стереть граффити, сперва голыми руками, затем – камнем. На глазах у зевак они тушили сигареты о его спину, толкали его к перилам и били его кулаками и палками. Измученный Ф. в конце концов потерял сознание, и его сбросили в реку. Водопроводчик спустился к Панке и стал его топить. Благодаря авианалету Ф. избежал смерти и был помещен в еврейский госпиталь. Его так сильно избили, что жена едва смогла его узнать. Несколько дней спустя он умер. После войны, в 1953 году, двоих нападавших приговорят к десятилетнему тюремному сроку98.




