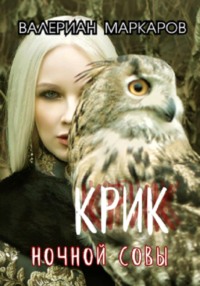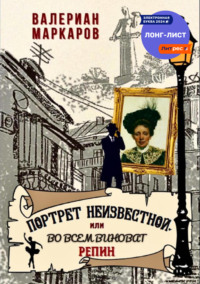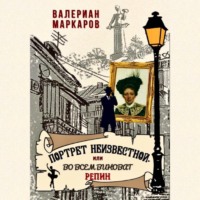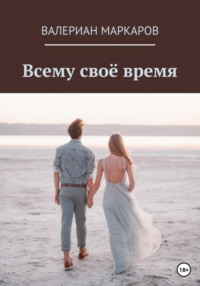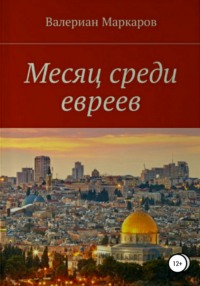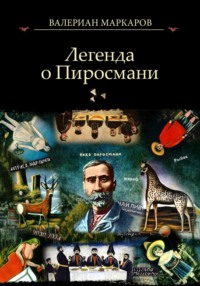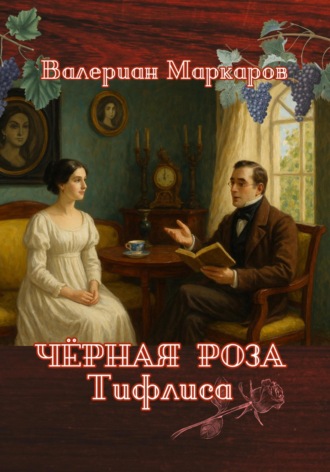
Полная версия
Черная роза Тифлиса
В зал, не спеша, вошла Прасковья Николаевна.
Её лицо, ещё сохранявшее правильные черты и ту особую светлую строгость, какую дарует зрелость, смягчилось при виде Нины. Глаза её засветились сдержанной, но глубокой радостью.
– Доброе утро, деточка, – сказала она просто, с тихой теплотой.
Нина вскочила, подошла к ней, на мгновение прижалась к её плечу. В этом движении не было суеты – одно лишь чистое, почти дочернее чувство.
Прасковья Николаевна с лёгкой улыбкой отошла на шаг и внимательно вгляделась в свою воспитанницу. В памяти невольно промелькнули года.
– Что делает время! – подумалось ей с лёгкой грустью. – Взрослая… да ведь уже настоящая барышня!
Светились глаза – большие, тёмные, как миндаль, с глубокой тенью, таившейся под ресницами. Коротко подстриженные волосы – цвета зрелого каштана – вились у висков. Маленький, правильный нос, свежие, уже очерченные губы с лёгкой припухлостью в уголках… Тонкие плечи, ладные руки… И те две родинки – одна на мочке уха, под круглой серёжкой, вторая – во впадинке на груди…
– Подумать только – почти невеста!
И в самом деле, стройная, с лёгкой полнотой юности, но гибкая, грациозная, Нина казалась старше своих шестнадцати лет. В ней была та редкая, врождённая утончённость – не жеманство, не манерность, а природная благородная сдержанность, сквозившая в каждом её движении, в осанке, в медлительной походке, где было что-то от кошки и от королевы.
– Какие прихоти природы! – мелькнуло в мыслях Прасковьи Николаевны. – У одних родителей – да такие разные дети…
Вот Катенька, пылкая, звонкая, в свои двенадцать шумит, как целая орава. Певунья, озорница – разносится её смех по всем этажам, как колокольчики на ветру. Она-то и съехала, наверно, по перилам, не в первый и не в последний раз. Словно ветер врывается она в каждый угол дома.
А Ниночка… кроткая, ясная – будто лунный свет в тиши. С детства любила уединяться: заберётся с ногами в большое отцовское кресло, обложится шёлковыми мутаками, возьмёт томик Вольтера или «Мизантроп» Мольера – и исчезает для всех. А потом бежит к отцу, с нетерпением спрашивает, что он думает о прочитанном, ловит каждое его слово.
Катенька – буря, Нина – тишина. Та разливает – эта собирает. Катя изображает ястреба, гоняющегося за цыплятами, участвует с мальчишками в играх, «берёт в плен шаха», смеётся, кричит, падает, не унимается. А Нина предпочитала шарады, загадывала ребусы, сидела с книгой, и всё – в полголоса, всё – как в полусне.
И всё же характер у неё был: в её молчании – внутреннее ядро. Она умела дать отпор, когда требовалось. Прасковья Николаевна ясно помнила тот случай, когда престарелый князь Гелашвили, с позолоченным тростником и масляной ухмылкой, осмелился отпустить комплимент, слишком откровенный для светской беседы. Нина тогда взглянула на него так… холодно, спокойно, словно глянула сквозь и мимо, как на прозрачную, неприятную тень. Слов не потребовалось: он поперхнулся, отступил, и больше в их дом не показывался.
Глава 4
Нет, теперь он знал это окончательно: не может он, Грибоедов, жить без Кавказа – этого скрещения миров, где пересекаются ветры из прошлого и зарницы будущего, где каждый камень дышит историей, а каждый поток – преданием. Через эти ущелья, сквозь снежные хребты и знойные долины проходило, кажется, всё человечество: от племён, затерянных во мраке допотопных времён, до сынов новых веков. От Ковчега Ноя, что вознёсся на седоглавый Арарат, – до всадников Тамерлана, сокрушавших города.
Здесь прошли этруски и хазары, сарматы, мидийцы, аланы и авары, греки, готы, арабы, татары, римляне, ассирийцы, монголы, турки и персы. Проходили – и оставались: ложились, как слои в мраморе, создавая переливчатую ткань народов, языков, богов и мечей. Сменяя друг друга, властители несли на копьях алчные стремления и невиданные страдания, а с ними – неведомое искусство, замысловатые строения, кровавые законы и блестящую одежду из тысячелетий.
По одну сторону Кавказского хребта – воинственные, жестокие и гордые чеченцы, лезгины, аварцы и прочие, имя которым легион. По другую – великие потомки царицы Тамар и Тиграна Великого. А ещё дальше, подобно двуглавым орлам с подломанными крыльями, простирались утомлённые, но всё ещё страшные Персидская и Османская империи – два дряхлеющих хищника, что в смертной схватке сжимают между собой южные склоны Кавказа, душат, рвут, поглощают всё живое, – и в то же время рассыпают драгоценные жемчужины Востока. Там всё – крайности. Там рабство цветёт так же пышно, как гранат в садах Исфахана. Там человеческая жизнь – прах под ногами сатрапа. Там прекраснейшая дань – девочки и мальчики, уводимые в гаремы, в сераль, в неволю сладострастия. Там, рядом с нищетою горцев Дагестана, сады Шираза, мозаики мечетей Тавриза, а в Тейрани – покрытые изразцами дворцы, где ветер играет с тяжёлым шёлком – роскошь, неизвестная Европе, изнеженность и сладострастие, неведомые даже Риму в эпоху его пышного разложения. И равнодушное восточное изуверство: человек не стоит ровным счётом ничего, обмануть или даже убить неверного, гяура, – значит приблизиться к священным вратам Джаханнама, где тебя ожидают цветущие сады и вечно юные и прекрасные гурии.
С жадностью юноши вчитывался он в книги, запоем изучал хроники, сказания, родословные, надписи и предания, глотал, как воду, стихи Востока. Его влекла эта земля, где ночь тиха, как шелковый плат, а день полон меда и вина и крови.
И вот он – снова в Тифлисе, городе, сложенном из балконов, теней и переулков. Каменные улочки, как ящерицы, вьются кверху; базары, бани, тени платанов, голоса – всё живёт, поёт, взывает к поэту, к мыслителю, к пилигриму. Кто, кроме него, понял бы, раскрыл бы, полюбил бы эти пленительные прелести, эту сказочную обитель, затерянную в горах, как драгоценный перстень в складках старинного кафтана?
Он и сейчас не может забыть того октябрьского утра 1818 года, когда по пути из Моздока в Тифлис впервые въехал в Дарьяльское ущелье, что, как чугунные ворота, заперло Север и Юг. Грозный, молчаливый перевал, где облака висят, как пелена траура, где каждое дерево – будто свеча над гробом былого величия. Он стоял тогда в седле, цепенея от холода и благоговения, и сердце билось в груди с тем трепетом, с каким бьётся оно у влюблённого, впервые узревшего свою избранницу.
То было ущелье, пробитое в граните веков, узкая щель меж каменных исполинов, чьи вершины, хмурясь, утыкались в небеса. Свет с трудом просачивался сквозь тучи, мох и пыль времён, а дно, покрытое вечной тенью, казалось недосягаемо для ока смертного. Вдали – древний храм на Казбеке, где снега, словно ангельские покрывала, розовеют в отблесках лазури и, играя с тучами, мерцают облачною белизной.
Вот он пустился вперёд, одинокий, но исполненный восторга, как паломник, вступающий на землю обетованную. Позади, торопливо, с брызгами грязи и ритмичным постукиванием копыт, шёл казачий отряд – десяток всадников, угрюмо, но верно сопровождавших его. Снег, как полотно, навешен в складки. Шумный Терек гремел внизу, срываясь с утёсов, словно крик необузданной стихии. Дорога, обледенелая и крутая, вилась по косогору. Они пробирались верхом через стремнины, и не было вокруг селений, кроме редких осетинских саклей, прижавшихся к скалам, как гнёзда ласточек. Всё выше и выше – пока не достигли они вершины Крестовой горы, где повстречали персидский караван. Ветры с Востока трепали покрывала мулов, и лошади персов глухо стучали подковами по камню. Грибоедов, выбившийся из сил, падал на землю, но вставал, поражённый величием пути, его суровой, необъятной поэзией.
Далее – спуск, крутой и опасный, в долину Койшаури. Там открылась ему Ананурская крепость, над бурным Арагви, где среди волн скрывались форели, серебряные, как сны. Вокруг – пашни, целые поля всходов, башни и хаты, руины древних замков, черепичные крыши монастырей, и стада коз, овец, буйволов. Арагва, как и Терек, журчит шумно, весело. А дорога? – как сад Эдема: грушевые деревья, дикие яблони, ароматные дыни…
«Да, – шептал он, – всё здесь сотворено для человека. Для радости, для счастья…»
Сам Тифлис стоит на высоких обрывистых каменных берегах, украшенных древней крепостью, старинными церквями и дворцом. Здесь на улицах дрожки скользят по изломанным мостовым, между домами с балкончиками, как клетками для певчих птиц, и глухими стенами, что вдруг раскрываются в распахнутые ворота, ведущие в дворики, полные лестниц, людей и скота.
Грибоедов радовался, будто ребёнок, восточному виду города – ведь как же было бы обидно, проехав три тысячи вёрст, увидеть нечто обыкновенное! Ну, право, что за роскошь этот Тифлис, где за время нескольких своих пребываний прожил он около четырёх лет и всегда находил вдохновение – то были годы его напряжённого творческого горения!
Змейками вьются улочки, как лозы виноградные, подступая к солнцу, с названиями словно из грёзы: Винный ряд, Угольная, Армянский базар, Башмачный, Сионская, Банная, Ватный ряд… Всё кипит и шумит, звенит и поёт. Вдали, со скромного минарета, всхлипывает муэдзин, а купол Сионского собора будто пылает огнём, отражая солнечные лучи, от которых всё окрест словно окутано парчой.
Чуть поодаль – улицы узкие, тёмные, с удушливым запахом кожевенников: таков Татарский мейдан – самая гулкая, самая неистовая часть города. Здесь кричат торговцы, звенят весы, ворочаются верблюды, утомлённые, тяжело навьюченные. Не выпряженные буйволы лежат прямо на земле, жуя сено с той ленивой философией, что присуща Востоку. А рядом – ослики с перемётными сумами, откуда выглядывают глиняные головки кувшинов с мацони, словно из мешка сама жизнь смотрит.
Вот он бродит один среди лавок, что, как диковинные наросты, выпирают из глиняных и каменных жилищ, наполовину вросших в землю, с навесами из досок и холста, кривыми, точно приросшими к телу улицы. Торговые ряды тут тесно сбились друг к другу, так что прохожим остаётся лишь боком тесниться вдоль проезжей части, уступая путь навьюченным мулам, неторопливым ослам, да телегам с громоздкими мешками.
Сюда стекается самый разнообразный люд – греки, армяне, татары, грузины, персы, – и звуки их речей, звон меди, глухой гул голосов сливаются в один восточный гомон. Над всем этим – лязг сотен весов, уравновешенных на коромыслах с блестящими чашами, висящими на тонких цепочках, – и вся торговля кажется не делом, а неким шумным, нестройным ритуалом, древним, как и сам этот город.
– «Что же ты ищешь здесь, странник?» – подумал он, остановившись у полутёмной лавки, где висели сбруи, кинжалы, шерстяные кушаки. – «Сувенир для души? Напоминание о здешнем буйстве красок, запахов, лиц? Или попросту оправдание для самого себя – не зря, мол, прошёлся, не зря заглянул, оставил здесь пару серебряных монет и унес частицу Востока в кармане…»
Он подошёл ближе, его взгляд упал на серебряную трубку с выгравированным замысловатым узором. Вещь была не новая, но ухоженная: древесина мундштука потемнела от времени и рук, а серебро сияло, как зеркало, лишь с налётом благородной патины.
– Интересная вещица, – молвил он.
Старик-лавочник, сухощавый, с белёсой бородой и глазами как миндаль, поднял голову. Он медленно, с достоинством, снял трубку с крючка.
– Старая работа. Серебро по Шушинской технике, – ответил он по-русски с тягучим акцентом, словно разворачивая товар не только руками, но и голосом. – Служила много лет одному доброму карачохели. Умер – теперь трубка ждёт нового хозяина.
– И чего же она стоит? – спросил он, невольно улыбнувшись: старик торговал не вещами, а судьбами.
– Для тебя, ага́, – произнёс старик, приметив в нём приезжего, но сдержанного, не из тех, кто торгуется ради крика, – три рубля серебром. Возьми, почувствуй вес – это не подделка.
Грибоедов взял трубку: она была тяжела для своей величины, тёплая, будто хранила тепло ладони прежнего владельца.
«Сколько у этих людей вкуса и достоинства в обыденном предмете… Какой у нас русский чиновник станет курить из такой?»
– Беру, – коротко сказал он и вынул из кармана мешочек с мелочью. – И кисет к ней подбери.
Старик кивнул, снял с полки кисет, вышитый золотом на бордовой парче, с завязками из шёлка. Он был туго набит свежим табаком, который тут же пробрался в ноздри густым, терпким ароматом.
Рядом подмастерье – мальчик лет десяти, с огромными чёрными глазами и курчавой шапкой волос – заглядывал в глаза покупателю, ловя каждый жест. Ему не нужно было слов: он уже вынес из лавки маленькую коробочку с древесной золой и стал молча начищать серебро уголком старой ткани.
Он попрощался с лёгким поклоном, трубка теперь лежала у него за поясом, кисет – в кармане, а на губах осталась странная улыбка: грусть и благодарность вперемешку. И, уходя вглубь рыночных рядов, он всё ещё чувствовал в пальцах тяжесть серебра – не как товара, но как свидетельства того, что живое искусство всё ещё дышит, существует, даже в этом вихре времени.
Прямо на улице портные, ловкие и многословные, будто базарные глашатаи, выискивают себе новых клиентов, едва завидят прохожего в мятом камзоле или поношенной сорочке. Один из них, широкоплечий, с угольно-чёрными усами и серебряным напёрстком на большом пальце, подскочил к нему из-за стойки, за которой только что усердно гладил что-то своим угольным утюгом – чад от него тянулся к небу, как от дымящегося вулкана.
– Э-эй, постой! – воскликнул портной, – снимай свою старую сорочку! И, не жалей, бросай в духан – пусть ею полы трут! Такой уважаемый человек, как ты должен выглядеть достойно.
Он уже что-то вытаскивал из вороха складок – ослепительно белую, крахмальную сорочку с широкой отделкой по вороту.
– Вот, батоно, бери эту, примеряй! С левого плеча шьём, по-тифлисски, чтоб сидела, как влитая. Не жмёт же нигде? А? Ну, тогда носи на здоровье, генацвале!
Грибоедов, улыбнувшись, приподнял бровь.
– Сколько возьмёшь? – спросил он, пока портной завязывал кисейный мешочек с серебряными пуговицами.
– Для такого красавца, как ты? Пара шаури! Да и то, скажу жене, что отдал за даром. Возьми – носи с радостью! Как сносишь – приходи ещё! И друзей приводи! Все довольны будут!
Он расплатился и, выйдя на улицу, почувствовал, как свежая сорочка приятно охладила плечи, точно влажное полотенце в полуденный зной.
Дальше – толпа. В тесном кругу пляшет медведь, гремя цепью, кланяясь в такт дудочке, а неподалёку – человек в тюрбане, перс, обвивший себя змеёй, шепчет ей, шевеля губами. Та извивается по его плечам, как чёрный ожерелье, и, кажется, внимает.
Вот и цирюльник, с ухватками актёра и ловкостью гильотинёра.
– Князь джан, зарос, как кочевник! – восклицает он, хватая Грибоедова за подбородок. – Постричь, побрить, кровь пустить? Усталость сниму, лицо освежу, от дурной памяти избавлю!
Он уже откупорил банку, где плавали пиявки, шевеля толстыми телами в мутной воде.
– Сегодня не до пиявок, – отшутился Грибоедов, – пожалуй, только виски подравняй и пыль с подбородка сними.
Цирюльник орудует бритвой, как музыкант смычком, и вот – зеркало, улыбка, поклоны. Глядь, уже новые клиенты наготове, один другого важнее.
Пахнет хлебом. Там, за поворотом, шоти, длинные, золотистые, с хрустящей коркой, извлекаются из печей-тонэ длинными железными щипцами. Пекари поют, тянут мелодии в унисон, словно печь – их инструмент, а хлеб – симфония.
А за хлебом – шашлыки. Мангальщик, краснощёкий, вспотевший, как сражающийся на дуэли, вращает шампуры. Мясо – обжигающее, румяное, с соком, что капает и шипит на углях. Дым душист, как благовония в храме.
– Попробуй, дорогой! – говорит повар, подмигивая. – Мясо от быка, что рос на травах, под горным солнцем. Да с баклажаном, да с зеленью – никакой вельможа не устоит!
– Уговорил, – отвечает Грибоедов и садится на низенький табурет у складного столика. Ему подают шампур и глиняную чашку с кахетинским вином, тёплым, терпким, красным, как гранатовый сок.
«Вот оно, настоящее. Без официантов, без петербургских изысков – зато с душой. Как и всё здесь. Всё в Тифлисе пахнет жизнью – пыльной, влажной, душистой, виною, потом, жаром, – но настоящей».
Он пил, ел, жевал с хрустом корку шоти, а потом вытер губы платком, расплатился, не торгуясь, и, в приподнятом настроении, пошёл дальше.
«Только бы не забыть этот дым, этот голос, этот хлеб. Только бы унести с собой!» думал он.
А впереди, как и положено в Тифлисе, – новое чудо, новый собеседник, новая история.
Винные погреба, духаны, харчевни, чайханы – «утром – чай, вечером – чай, душка моя, не серчай!» – здесь они друг на друге, друг над другом, друг в друге, как матрёшки. Из открытых окон тянет то терпким ароматом кахетинского вина – густого, как вечерняя тень, – то молодым вином, словно роса в виноградной чаше. Белое, чёрное, кислое, сладкое, сухое – настроение можно выбирать, как сорт, по погоде или по сердцу. А к нему – то чача, что обжигает гортань и гонит кровь по жилам; то квас, прохладный, с пузырьками; то чай, тянущийся, как восточная беседа; то лимонад, с пузырьками счастья. И всё – чтоб запить, да и просто порадоваться.
«Но остерегись, друг мой: прежде чем спорить с торговцем или распускать язык, сунь руку в карман – слышишь ли ещё звон шаури? И абази – целы ли, не испарились, как вечерний зной?»
Жизнь тут, в отличие от ленивой Европы, не ждёт солнца в зените. Она просыпается вместе с первыми петухами, ещё в полумраке, и уже кипит, бурлит, звенит, гремит.
Стук молотков – это кузнец на углу кует подкову, звенит железо, искры летят. Где-то хрипит шарманка, криво выводя «Сулико». Дудук плачет, зурна смеётся, бродячий музыкант бренчит на сазе и напевает в полголоса: – Ай, Тифлис, моя тоска…
С базарной площади разносятся крики:
– Картофель молодой, как щека невесты! – Груши! Груши! Груши, сладкие, как сердце моей тёщи!
Кинто – эти неугомонные, в шароварах, похожих на паруса, – бегут, балансируя на голове круглые подносы с айвой, инжиром и виноградом. Один, не удержав равновесия, вскрикивает, поднос валится, фрукты катятся, и толпа расступается с криками и смехом.
«Что за город, что за музыка! Всё одновременно: дудка и петух, шарманка и кашель, спор и песня. Даже ругань тут – с мелодией. Даже злоба – с приправой!»
Вот идут персы – в чалмах, с рыжими бородами, будто огонь на щеках. У одного – табак в бумажных свёртках. У другого – пудрёные розы, пахучие, как стихи. Лезгины в бурках, как тени гор, несут в мешках орехи и сушёные ягоды. Курды спорят с татарами, торгуясь за цену фиников. Турки жмут друг другу руки, переговариваются с прищуром – не понять, торгуют или судачат.
– Пахлава, как у мамы! Сладкая, как первый поцелуй! – кричит юнец у лотка, и Грибоедов, не удержавшись, берёт кусочек, откусывает – липко, медово, как сам этот город.
А впереди – ещё одна чайхана, с низкими подушками, игрой нард, шёпотом стариков, бесконечным кипением самовара…
Весь этот ярмарочный, гудящий и пахнущий вином квартал, словно волна, доходит до границы – и внезапно стихает. Шум оседает пылью у подошв Штабной площади, вымощенной ровным камнем. Здесь уже и не кричат, не суетятся, не спорят – здесь ходят. Медленно, выверенно. Под каблуком – эхо. Над головой – строгая синева.
Сразу за площадью – здание Штаба командования войск Кавказского военного округа, чёткое, симметричное, будто сошедшее с линейки чертёжника. Дальше – Духовное училище, с резными наличниками, звонкими мальчишескими голосами и запахом чернил и ладана. А за ними, как вершина пирамиды – дворец главноуправляющего на Кавказе, точно вставленный в пространство, как драгоценный камень в оправу. Здесь, на широком кресле из слоновой кости, с резной спинкой, обтянутой алым бархатом с бахромой золотой, восседает сам Ермолов – лев Кавказа, холодный, усатый. Его глаза – не глядят, а оценивают. И под этим взглядом горы смиряются, границы двигаются, судьбы ломаются, как прутики.
«А кто ты, пёстрый Тифлис? – мог бы спросить он. – Рынок или столица? Восток или Европа? Где твоя душа, за базарной лавкой или за французским камином?»
Он, Ермолов, повелел – и вот уже на левом берегу Куры, там, где когда-то было поле, появилась немецкая колония. Чистые дома, крыши в черепице, огороды, где в изобилии молоко, масло, картофель. И пиво. Всё аккуратно, как на гравюре. Колонисты поставляют продовольствие с такой точностью, словно будто маршируют.
А в это время город растёт, поднимается вверх – на Мтацминда, и стекает вниз – к Куре, как водопад улиц. Появляются здания с колоннами, карнизами, лепниной, аттиками – ренессанс и ампир, словно приехали из Парижа в чемодане. Уже не глинобит, не саманный, а камень, штукатурка, мрамор.
На проспекте – витрины магазинов, афиши театров, вывески на французском, немецком, русском. Здесь – банк с тремя конторскими окнами и часами, где стрелки не спешат. Здесь – доходные дома, в которых живут портные, чиновники, гувернантки. Здесь же – модники в цилиндрах, дамы в крепдешине и кашемире. Приглядись к прохожему – ты не отличишь его от парижанина: тот же воротничок, та же остроносая трость, те же приподнятые брови.
«Это ли Тифлис? – думаешь. – Или сон в стиле Парижа, с привкусом кахетинского вина?»
Пока в старом городе карачохели запивают тоску вином, закусывая сыром, и слушают в трактире дудук, здесь, за фасадами с лепниной, в гостиной с зеркальной дверью, аристократ в сюртуке потягивает французский коньяк. Шансон звучит едва слышно, и серебряная ложка стучит о фарфор так деликатно, будто извиняется.
«Кавказский Париж» – именно так называют тифлисцы свой город. И если тебе выпало счастье попасть сюда – по воле судьбы, по службе или по любви – знай: ты уже не уйдёшь прежним. Он в тебе останется. В голосе. В походке. В снах.
* * *Прибавляя шагу, Грибоедов спешил сейчас к своему другу – князю Александру Чавчавадзе. Тот хоть и был лет на девять его старше, разница в возрасте не мешала, а скорее помогала: с ровесниками Грибоедов чувствовал себя чужим – уж слишком холоден был к пустой болтовне, слишком взыскателен к уму и душе. А с Чавчавадзе – дело другое: поэт, воин, философ и эстет, он понимал его с полуслова.
Их знакомство началось буднично, с фортепьяно. Грибоедов тогда метался по Тифлису в поисках приличного инструмента – свой ещё не прибыл. Кто-то порекомендовал гостеприимный дом в Сололаки. И вот – открылись двери, в полутени цветущих персидских роз он услышал ласковый голос Прасковьи Ахвердовой, и на рояле, в прохладе гостиной, положенной коврами, впервые за долгие месяцы сыграл не ради публики, а – для себя.
«Вот дом», – подумал он тогда. – «Здесь не спрашивают, где твоя должность и чин, здесь слушают музыку. И даже – молчат правильно.»
Он возвращался сюда снова и снова – не только ради инструмента. Здесь ему не напоминали о его прошлом дуэлянта и странного чиновника, здесь видели в нём поэта и музыканта. В нём угадывали драматурга, которому было тесно в тесных комнатах Петербурга. Здесь – в Тифлисе – он впервые почувствовал, что его понимают.
Лето 1826 года стояло знойное, как пар из медного таза. Днём город замирал: ставни закрывались, люди отступали в тень, на балконы, оплетённые виноградом, где в зелёной глуши звенели только мухи да изредка капала вода. Налитые солнцем, ещё не вызревшие гроздья напоминали: осень идёт, тиха и торжественна, как грузинская песнь на закате.
Грибоедов шёл улицей, слегка щурясь, задумавшись о письмах, которые ещё не написал, о нотах, что звучали в голове, но не ложились на бумагу. И тут вдруг, вынырнув как из воздуха, к нему приблизился невысокий человек с выразительным лицом:
– Гаспадин дарагой! Купи землю! Харошая земля, прямо с Мтацминда!
Грибоедов вздрогнул, очнулся от своих дум. Перед ним стоял кинто – торговец и полугородской философ – рядом послушно топтался ослик, нагруженный мешками земли, а сверху, на дощечке, лежали букеты цветов.
Кинто с живым интересом разглядывал иноземца: высокий, в чёрном сюртуке, цилиндр – блестит, как ночное зеркало. Белоснежный воротничок туго перехвачен шёлковым галстуком. А лицо – строгое, как у судьи. Тонкие очки, карие глаза, нахмуренный лоб, складка меж бровей, упрямый подбородок.
– Земля, дарагой! Не хочешь землю? – А для чего мне земля? – рассеянно спросил Грибоедов, продолжая рассматривать ослика.
Кинто, не растерявшись, закатил глаза:
– Ва! – Ва! Как это для чего? Для цветов! Для души! Для жизни! Вот возьмёшь горсть, посадишь розу, и будет тебе счастье, как у шаха.
– Нет, землю я куплю потом, когда буду уезжать, – сказал Грибоедов тихо. – Чтобы всегда носить с собой Грузию – в кармане…
Он указал на пурпурно-красные розы.
– А пока – отсчитай-ка мне эти розы. Сколько там?
Кинто вздохнул трагически:
– Э-э-э… что розы… розы все покупают. А вот земля… – бурчал себе под нос кинто, с изысканностью рыцаря отбирая цветы. А ослик жевал верёвку, устав от философии.