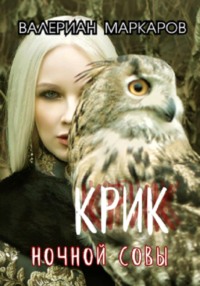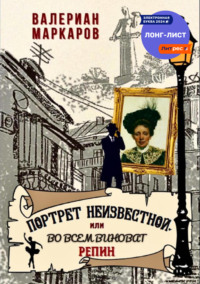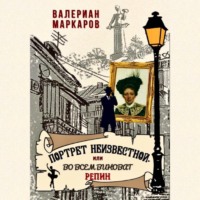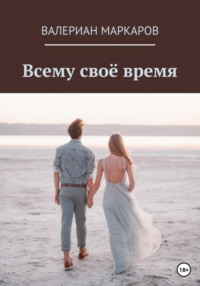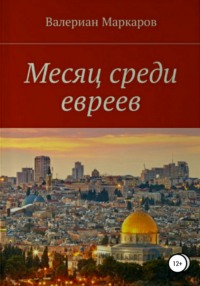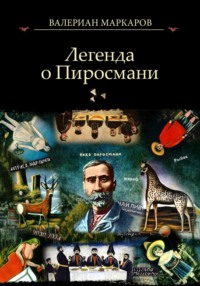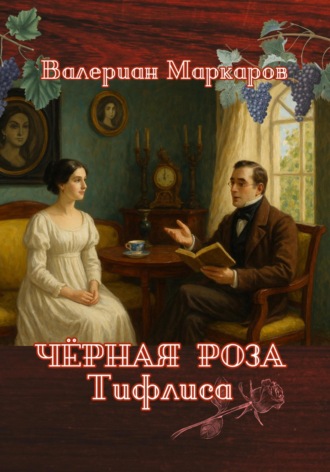
Полная версия
Черная роза Тифлиса
Всемилостивейший государь!
Вашего императорского величества верноподданный Александр Грибоедов ».
Письмо государю – обиженное, яростное, правдивое – не было даже принято к рассмотрению. Подали отказ сухо, с презрительным надломом в голосе: – Подобным тоном к императору не пишут.
И дело встало. Остановилось, как замёрзшая ось на санной телеге: ни вперёд, ни назад. Тишина, как на грани обморока. Пустота – зловещая.
Но не это терзало Грибоедова более всего. Он ждал – дрожащей ниткой, будто пальцы положены на струну – вестей о друзьях, тех, что томились в крепости, в каменных сумерках, на нарах, между трубками с испариной и шагами часового, звеневшими, как капель в пустом колоколе.
А друзья… Друзья, веруя, что от показаний всё равно зависит не их судьба, а память о них, начали говорить – с избытком. Словно оправдывались не перед следователем, а перед потомком, грядущим, справедливым. Откровенничали до последней жилки, до последнего раздражённого слова. Объясняли – почему не могли иначе, что думали, как хотели и в чём разочаровались. Одни – сдержанно, другие – с горячкой. Но все, как один, единогласно, хором, почти с болью, отрицали его участие.
– Он в заговоре не участвовал, – говорили. – Мы и не старались привлекать его. Он был – иной. Не к делу, а к слову предназначен. Он мог бы прославить Россию – не пистолетом, а пьесой.
Кто-то добавил: – Мы берегли его.
И это звучало почти как прощение, почти как приговор.
Наконец, 24 февраля – спустя недели молчания и промедления – последовало распоряжение: явить Грибоедова к Комитету. Зимняя метель уже выдохлась, на Неве стоял тугой, стеклянный лёд, по которому катили сани. Его везли – с завязанными глазами, в тишине, нарушаемой только стуком полозьев, – в Петропавловскую крепость.
Комната – не допросная, скорее, квазисценическая. Длинный стол, красная суконная скатерть, лампады в бронзе, лица – мрачные, безучастные, но выученные. Всё – чинно, как надгробие. Сидели вперёд поданные: военный министр Татищев, великий князь Михаил Павлович, четыре генерал-адъютанта. Среди них – бледный, стареющий Голенищев-Кутузов.
Грибоедов стоял – как перед жюри истории. Он чувствовал: дело его – не в бумагах, а в выражениях лиц. Тут не допрос, а исполнение. Суд не над участием, а над духом.
А рядом, в тот же день, на другой очной ставке, Пестель – сдержанный, сосредоточенный – глядел в лицо Волконскому, как в зеркало. И вдруг – выпад. Вспышка и удар: – Удивляюсь, господа, – спросил Кутузов, – как вы могли решиться на такое ужасное дело, как цареубийство?
Пестель – мгновенно, без паузы, почти весело: – Удивляюсь удивлению Вашего превосходительства. Вам, как никому, должно быть известно: не первый это был бы случай…
Тишина. Кутузов – осел лицом, побледнел, позеленел. Вспомнил – заговор, ночь в Михайловском, убийство императора Павла…
Пестель обернулся к остальным членам комиссии – и бросил, почти шутливо, почти с вызовом: – А бывало, и за это Андреевские ленты давали…
Фразы эти шли по залам, как шорох пороха. Глухо. Тихо. Но смертельно. Грибоедов слышал это позже – и не раз. Он улыбался краешком губ. И знал: то, что осталось – уже не в протоколах. А в дыхании эпохи.
На допросе он держался стойко и холодно – даже с оттенком скуки, будто отвечал не следователю, а надоедливому газетчику, пристающему с домыслами. Всё отрицал.
– Князя Трубецкого я едва ли знал, – произнёс он вежливо, но с подчёркнутой обособленностью, как бы отсекая ту среду, к которой принадлежать ему не позволял разум – и осторожность. – Рылеев, Бестужев… Да, встречались, говорили о Пиндаре, о праве народов и «Калевале», но ничего они мне не открывали. Ни о каких тайных обществах я понятия не имел. И, стало быть, мнения о них – не имел тоже. Ни положительного, ни отрицательного.
Он говорил как человек, решивший выжить. Как человек, знающий, что слово может быть последней нотой приговора.
25 февраля Следственный комитет – наконец! – представил императору ходатайство: освободить Грибоедова. Но высочайшего соизволения не последовало. Бумага ушла вверх, как камень, брошенный в небо, – и не вернулась.
Его велели оставить – не в крепости, но в здании Главного штаба, под невидимой, но неусыпной стражей. В ожидании отчёта с Кавказа, где специальный чиновник с мертвой хваткой дотошно выспрашивал: а не был ли замешан Ермолов? Государь всё ещё надеялся – упрямо, почти по-детски – найти в горской пыли доказательства вины самого грозного из русских генералов.
И так – тянулись дни. Он ложился с надеждой. А вставал – уже без неё.
Был март – холодный, с метелями, с ветрами, с тоской. Потом апрель – звонкий, с капелью. И всё мимо. А за окном – весна шла, как царевна: медленно, но неумолимо. Нева сбрасывала лёд, как кожу. По утрам с крыш свисали длинные, хрупкие сосульки, и, подставив солнечным лучам своё стеклянное горло, падали, звеня, на камень. На деревьях – почки, и в воздухе пахло первой пылью, размокшим глинозёмом, тревогой.
И вот – наконец, в самом начале июня – состоялась его аудиенция с императором. Николай принял его долго – и, казалось, слушал с живым интересом. Лицо его, вечно холодное, принимало выражение вежливой озадаченности: то хмурился, то приподнимал бровь, то кивал, будто споря мысленно с кем-то третьим, невидимым.
А в конце, вдруг – перемена.
– Вы порадовали меня своими суждениями, – сказал Государь, словно снисходя с высоты монаршей на крепкий ум простого смертного. – Я полностью удовлетворён Вашим рассказом.
И отпустил. Почти по-дружески.
В тот же день ему вручили под расписку очистительный аттестат – и в строках этого документа, напечатанных как бы от руки молчаливой бюрократии, значилось:
«По высочайшему Его Императорского Величества повелению комиссия для изыскания о злоумышленном обществе сим свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев сын Грибоедов, как по изысканию найдено, членом того общества не был и в злонамеренной цели оного участия не принимал».
Сухо. Без эмоций. Но он читал – медленно, строчку за строчкой, как читают оправдание, принесённое из будущего. Он вышел из комнаты с бумагой в руке, как из-под гильотины – живым.
На выходе из Главного штаба его встретил яркий, звонкий день – весеннее солнце билось в окна, как птица в стекло. Простор, небо, свет – всё напоминало о свободе, к которой он ещё не привык. Воздух был острым, прохладным, пахнул рекой, камнем и подтаявшей медью петербургских крыш.
Он подумал – пройти к Бирже, к ростральной колонне, где так любил стоять, прижавшись мыслями к бегущей Неве, вглядываясь в искрящиеся воды и линию горизонта. Там, у самого обрыва гранита, ветрено и пусто – и город оборачивается к тебе лицом, словно портрет с живыми глазами.
Но, дойдя до набережной, вдруг круто повернул назад.
Он увидел её – её, крепость, ту самую. Приземистая, зловещая, словно подползшая к воде. Петропавловка. Серая груда памяти. Словно подошла – впритык. Словно шепнула: ты ещё мой.
И в лицо пахнуло – прелостью, замшелым камнем, стылым потом стены, где воздух не движется и время не идёт. Он невольно прикрыл глаза: в темноте сразу всплыли низкие своды Алексеевского равелина, блеск фонаря, скрип двери, свинцовая тишина.
Нет! Не видеть, не слышать. Забвение – спасение. Он почти бегом кинулся вглубь города, в лабиринт улиц, подальше от воды, от крепости, от себя самого – февральского.
В кармане шуршала подорожная – как предписание к жизни. Прогонные деньги были отпущены вплоть до Тифлиса: 2662 версты, три лошади, три судьбы, и одна из них – его. Его вновь отправляли по месту службы – к Ермолову, который считал его чуть ли не родным.
Ермолов любил его так, как мог любить только тот, кто не привык к привязанностям: за ум – острый, недремлющий, за честность – почти неудобную, за знание языков, народов, прав, обычаев. За то, что умел молчать и умел говорить, когда было страшно.
Путь лежал через Москву, где он задержался на несколько дней – навестить мать, сестру, дом. Дом был молчалив, мать – тревожна, сестра – бледна. Он уехал в ночь, не прощаясь – чтоб не возвращаться взглядом.
В районе Мечетского редута, у самой Кавказской линии, его догнал Денис Давыдов – вихрь на лошади, баллада в мундире. Денис вынырнул из облака пыли с криком, как гусар из сна, и, встретившись, они продолжили путь вдвоём. Путь был труден и опасен. Глубокие овраги, ущелья, где Терек бился в скалы, хрипел, как зверь, и пел, как кантабиле. Здесь могло ждать всё: засада, выстрел, смерть. В скалах жили тени – чеченцы, которые не дышали, пока не стреляли.
Но им везло. Дорога сжималась, разжималась, извивалась, но не кусалась. И вот уже – Владикавказ. Здесь они впервые узнали: персы перешли границу. Аббас-Мирза, наследник, дерзкий, гордый, жёсткий – вторгся. Гянджа пала. Шамхор был взят. Крепость Шуша – осаждена. Карабах дрожал, как чаша на ладони.
Они расспрашивали встречных офицеров, рыскали за слухами, выискивали правду в лицах. И – радость: победа князя Мадатова. С малыми силами – разгром передового отряда персов. Подробностей ещё не было, но сама весть – как глоток воды после лихорадки. Надежда возвращалась.
В Тифлисе он первым делом направился к Ермолову – не с жалобой, не за наградой. Он принёс просьбу: перевести его «тюремных товарищей» – тех, что томятся под следствием, в действующую армию.
– Пусть искупят, – сказал он. – Пусть повоюют. И коли смерть – пусть она будет честной…
* * *А тем временем, с кронверка Петропавловской крепости, где воздух, казалось, от самого восхода звенел железом, уже который час доносился глухой, безжалостный барабанный бой – отсчёт. Он был не звук, а приговор – тот, что медленно, как волна, расходился по городу, загоняя людей за шторы, за спины, в углы.
Вопреки древним законам – ещё со времён Елизаветы, когда Россия, просветлённая и уставшая от казней, отказалась от эшафота – Николай I повелел: повесить.
Кутузов собственноручно руководил экзекуцией. Докладывал императору со всем тем холопским усердием, с каким некогда трубили победу при Бородине:
«Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумении устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьёв-Апостол – сорвались с верёвки, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть – о чём моему императорскому величеству всеподданнейше доношу».
Узникам запретили писать родным. Всё, что доходило из крепости, переписывалось чужой рукой – тонкой, женской, дрожащей: от тех, кто потом отправился вслед, в вечный снег, в Сибирь – за мужьями, братьями, сужеными.
Он, Грибоедов, ещё хранил в памяти лица – знакомые, почти родные. Из всех повешенных только Пестеля он не знал лично. Остальных – знал. Говорил с ними, спорил, смеялся, сочинял. Пятеро. Пятеро – под барабаны. Пятеро – на верёвке. Их тела, после казни, на лодке отвезли на Голодай – голый, бесприютный остров, где хоронили самоубийц.
Мадемуазель Ленорман – с её гладким лицом, глазами без зрачков, предсказанием, произнесённым между карт и ароматов. Он вспомнил про неё. Всё сбылось, всё пошло по написанному:
Кюхельбекер – в заточении. Александр Бестужев – в Якутске. Николай и Михаил Бестужевы, Муравьёв, Одоевский, Пётр Муханов – на каторге. Поливанов – умер в Петропавловке. Все. Все ушли. Остался только он.
И – мысль, как стрела: А что, если бы тогда, в Париже, в 1814 году, в самом сердце победной Европы, они прислушались к ней? Что, если бы поверили? Изменилось бы что-то? Или всё – уже написано? Не здесь – там, в записях Небес?
Всё – стало пусто. Вдруг. Резко. Не осталось ни круга, ни угла, где бы можно было спрятаться.
Для кого теперь писать? Для кого жить?
Он писал «Горе от ума» – для них. Для бунтарей, для дерзких, для тех, кто рвался в перемену, как в небо. А теперь – для кого?
Столица перестала быть родиной. Он покидал Петербург без жалости, как оставляют больницу, тюрьму.
Жить в деревне? На Кавказе? За границей? – всё равно. Петербург кончился. Осталась пустая форма – чиновничья, глухая, блестящая. По улицам теперь ходили не поэты и не победители – а надзиратели. На место гвардии пришло Третье отделение. В мундиры его чиновников вшили подкладку страха.
Это новая страна, думал он. Страна, в которой талант обрекается на виселицу, честность – на кандалы, а мысль – на молчание.
И – кто теперь будет бороться?
Некому.
Он шёл, не оборачиваясь…
Глава 7
Погружённый в думы, Грибоедов поднялся с кресла – чуть порывисто, как будто хотел стряхнуть с себя наваждение. Неслышно подошёл к фортепьяно – старому, с латунными подсвечниками, чуть потёртыми у основания. Здесь, у этой клавиатуры, каждый день хлопотал Сашка Грибов – с тряпочкой, с усердием, с почтением – как жрец при алтаре. Протирал пыль с белых клавиш, с крышки, с бронзовых завитков – чтобы всё было чисто, когда Александр Сергеевич сядет играть.
Он часто музицировал – не из прихоти, а как из необходимости: сбежать. От будней, от дум, от Петербурга, от страны. Моцарт, Гайдн, Вебер, Бетховен – имена, ставшие убежищем, где ум не стеснён и душа не подвластна приказам.
Из кармана сюртука он вытащил кожаный напалечник – коричневый, с лоском от частого прикосновения. Надел на короткий левый мизинец, почти машинально, и опустился на край табурета, немного склонив голову набок, словно прислушиваясь не к звуку, а к тишине. Крышка легонько щёлкнула, как перед откровением, – и он, не глядя, коснулся слоновой кости клавиш.
Лёгкие, пробные аккорды прошли по комнате – как тень. В них слышалось нечто вроде вопроса. Кому? Себе? Инструменту? Тем, кто ушёл – и тем, кто остался?
И вот – уже звучит вальс. Его собственный, в ля-бемоль мажор. Сначала едва различимо, будто просыпалась где-то под снегом тонкая весна, ещё колючая, но живая. Где-то на крышах – капель, где-то вдали – тонкий, нетерпеливый ручеёк. Всё в нём подспудно подгоняло время – торопило жить.
Мелодия то замирала, то вновь набирала силу. Пальцы его лениво – но точно – переплетались с клавишами. Момент – и он снова ускоряется. Всё тело в напряжении, взгляд потуплен, дыхание затаено. Это уже не упражнение, не привычка – это диалог. Непереводимый, глубокий, беспокойный.
Так мог играть лишь тот, кто любил музыку всем существом, кто владел ею не как ремеслом, а как судьбой. Музыка была не утешением – вызовом.
Потом он вытянул руки на клавишах – руки, казавшиеся длиннее, чем были, – и замер. Комната наполнилась тишиной – не той, что предшествует звуку, а той, что следует за ним, как эхо раздумья.
И вдруг – новая волна. Вальс ми минор. Этот – совсем иной. Плавный, певучий, с оттенком грусти, будто писал его человек, предчувствующий расставание.
В нём всё было – Петербург и Москва, дуэль и дорога, чай в гостиной и допрос на гауптвахте. Этот вальс уже не принадлежал ему одному. Он разошёлся – в тетрадках, в альбомах, переписанный дамскими руками, звучал то в бальных залах, то в учительских квартирах, то в память, то в знак. Его играли, не зная до конца, кто автор, но чувствуя – боль там настоящая.
Он доиграл. Снял напалечник. Положил его на край крышки.
Музыка растворилась. Ощутимая, как запах весенней земли после дождя. Грибоедов сидел, не шевелясь, и будто слушал ту самую тишину, которую оставляют после себя только вальсы, – и горе от ума.
А ведь когда-то его и впрямь могли лишить возможности играть на фортепьяно… Ах, скверная, нелепая история!
Ведь нельзя же, решительно нельзя стреляться всерьёз из-за женщины – какова бы она ни была. Даже если неверна. Ведь женская неверность – дело обыкновенное, происходит будто бы помимо воли, как ветер в распахнутое окно – налетел, взъерошил занавеску, и исчез. А коли уж нестерпимо взгрустнётся, коли тянет к пистолету, так уж лучше стреляться шутя – с изяществом, с иронией, с французским извинением на устах. А не так – всерьёз, по-глупому. До помешательства.
* * *Случилось то в 1817 году. Тогда он, в чине губернского секретаря, был определён в ведомство Коллегии иностранных дел – вместе с Пушкиным и Кюхельбекером. Там и завязалось их знакомство. В ту пору он жил на одной квартире со своим добрым приятелем, графом Завадовским. А тот, как на грех, ухаживал за блистающей звёздой балета – Евдокией Истоминой.
Дунечка, прелестная Дунечка… С чёрными, словно уголь, глазами, прикрытыми длиннющими ресницами, с гибкой, воздушной фигуркой, – она по праву слыла первой танцовщицей столичного Большого Каменного театра. Но судьба распорядилась иначе: едва поднявшись на вершину славы, она стала одной из самых желанных и, увы, самых содержимых женщин Петербурга. К её ложу выстраивались очереди жаждущих. Отныне возвышенное и низменное, небесное и земное, духовное и плотское – слились в её существовании в нерасторжимом единстве.
Но будем же милосердны и не станем её упрекать – ведь кулисы, уборные актрис, классы театральных воспитанниц – весь мир этих молоденьких, прелестных, не обремененных сдержанностью девиц с высоко поднятыми по моде волосами и открытой нежненькой шейкой, был постоянным источником любовных приключений.
Самые робкие мужчины лорнировали из лож, ловя мелькание ножек в вихре юбок. Смелые – стремились подсадить барышню в карету, а там, воспользовавшись моментом, сунуть дерзкую ладонь под многослойный подол, ощутить шелковистость чулка, батистовую мягкость панталончиков… А если уж особенно повезёт – и прохладу самой кожи. Но такое везение выпадало не часто.
У ног Дунечки, воспетой забиякой Пушкиным, крутилась вся светская молодёжь: лицеисты, чиновники с животами, военные с саблями. Поклонники осаждали её дом, бегали за её экипажем, поджидали в мороз и в слякоть, лишь бы услышать пару слов от «прелести Истоминой». А она – вдыхала фимиам поклонения и одаривала ласками – взамен на звонкую монету или изысканный подарок. Как говорят англичане: задаром – ничего, а за пенни – лишь самую малость.
После графа Орлова счастливым обладателем блистательной Истоминой стал кавалергард, штаб-ротмистр Василий Шереметев – влюблённый без памяти. Молодой человек знатного рода, с благородными чертами, тонкими манерами, с наружностью, будто сошедшей с классического портрета, – и вместе с тем ветреный повеса, великосветский балагур, любимец дам и соблазнитель, за которым уже тянулся завидный список побед.
Дунечка поселилась у него в квартире, где её окружили неслыханные знаки обожания. Но эта страсть, яркая, пламенная, оказалась – губительной. Шереметев, при всей своей галантности и породистой воспитанности, по натуре был – второй Отелло. А поскольку содержанка его была молоденькая, весёлая, бойкая, да к тому же вечно осаждаемая толпами влюблённых, приходилось ей, признаться, не сладко.
Среди приятелей Василия встречались особы весьма занятные. Частым гостем был, например, уланский штаб-ротмистр Якубович – театрал, проказник и отчаянный забияка. Столицу он прославил своими затеями: то привяжет квартального надзирателя к прирученному медведю и пустит погулять по Садовой, то, в добром расположении духа, выпьет бутылку шампанского с подоконника, болтая ногами в окно, словно не человек, а герой баллады.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.