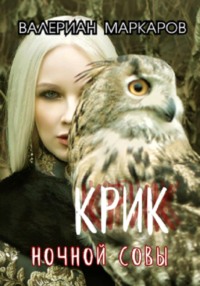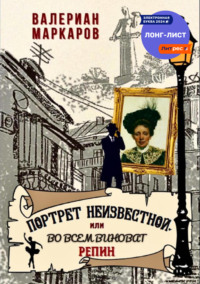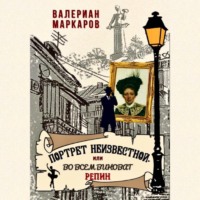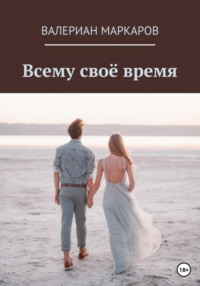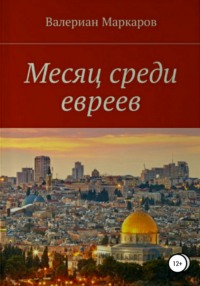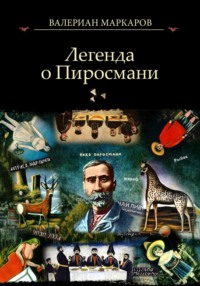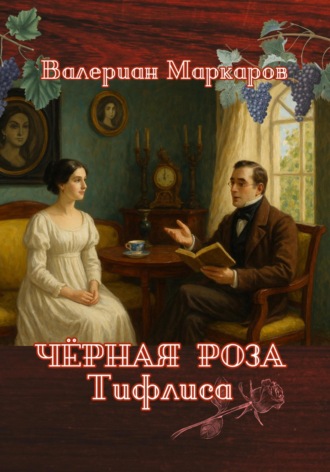
Полная версия
Черная роза Тифлиса
Он понял, что не сабля восстанавливает Отечество, не крик толпы, не кровь братьев. Он, грузинский аристократ с русским воспитанием и европейским кругозором, стал тем, кто сумел примирить в себе Восток и Запад, старое и новое, меч и перо. Разве не он одним из первых перевёл на грузинский язык вольнодумные стихи Пушкина? Да, в тот период он, молодой грузинский аристократ, уже полностью разделял освободительные идеи своего века, революционный дух которых так глубоко проник в среду передового русского офицерства. А спустя несколько лет, в 1811 году, он вернулся на родину уже не мятежником, но офицером русской службы, адъютантом при главнокомандующем – маркизе Паулуччи. Вернулся прощённый, с открытым лицом и чистой совестью, к дому, где его ждали жена Саломе и маленькая дочь Нино. И теперь, среди листвы и камней Тифлисского сада, он ожидал рождения второго ребёнка – не с тревогой, как в юности, а с благоговением перед новой жизнью, которую должен был защитить и воспитать уже не мятежник – но отец.
Ровно два года минуло с того великого дня – 18 марта 1814 года, когда русская армия под началом старого, непреклонного Барклая ступила, наконец, на французскую землю. Париж, грозный Париж, столица мира и войны, встретил победителей не выстрелами, не проклятиями – но тишиной. Серый, тяжёлый туман висел над улицами, как саван, и казалось, что город умер, укрывшись в своих каменных гробницах.
Колонны русских полков, запорошенные пылью и порохом, проходили молча, не оборачиваясь, по пустым улицам Сент-Антуанского предместья, где ещё недавно кипела буржуазная жизнь. Скрип колес, гул пушек, рёв команд, рассекавших сырой воздух, – и над всем этим покровом звенела только поступь истории. А потом, как это всегда бывает: город ожил. Из подворотен, из подвалов, из закоулков высыпали французы – мальчишки с тонкими лицами, женщины в чепцах, старики, пахнущие табаком и революцией. Кто-то крестился, кто-то молчал, кто-то смотрел с горечью, кто-то с любопытством.
Среди тех, кто въехал в Париж верхом, был и он – князь Александр Чавчавадзе, двадцатишестилетний адъютант главнокомандующего, сухощавый, высокий, с восточной осанкой и русской выправкой, с лицом, будто вырезанным из бронзы. Его французский был безукоризненен, как у аббата; его манеры – несомненно парижские; но в сердце его звучала флейта Кахетии, и глаза его видели сквозь камни Парижа родные виноградники Цинандали.
Кампания 1813–1814 годов стала для него и школой, и пьедесталом. Он отличился – не единожды: в атаке, под огнём, в штабе при разработке диспозиций. За это был награждён щедро и по чести: орден Святой Анны второй степени, прусская золотая сабля с чеканкой «За отвагу», и даже – редкость невиданная – французский орден Почётного легиона, которым французы неохотно жалуют даже своих. Всё это не вскружило ему голову: честь и слава были для него не целью, а инструментом, как лезвие шашки или перо.
Но судьба, как всегда, напомнила о себе. В самый разгар победы дала о себе знать старая, не до конца зажившая рана – след пули, полученной им в юности, при подавлении кахетинского заговора, когда он ещё только учился быть офицером, а кровь в жилах кипела сильнее устава. Рана разошлась. Врачи велели покинуть ряды армии. И он, с болью, но без ропота, вернулся на родину, уже в чине ротмистра, с назначением командовать Нижегородским кавалерийским полком, стоявшим недалеко от его родных мест, среди виноградных склонов, где воздух пах не порохом, но земляникой и солнцем.
И вот теперь, весна на дворе. Но весна не такая, как хотелось бы – серая, холодная, неприветливая. Тучи тянут низко, по вечерам туман висит над Алазани, как старый платок, забытый на ветках. Александр сидит в своём доме, у камина, один, греет руки у огня, прислушивается к потрескиванию виноградной лозы в очаге. И думает. Не о сражениях – те позади. Не о наградах – те в ящике, под замком. А о сыне. Ну, какой грузин не мечтает о наследнике? Не о том, кто станет продолжением его – в теле, в имени, в крови. Кто пройдёт по тем же тропам, но с меньшими ранами. Кто будет носить саблю – и перо. Кто однажды, может быть, тоже войдёт в Париж – или в историю.
Тяжкий стон жены прервал мысли Александра. Он вздрогнул, не сразу понял, откуда звук, – и лишь потом, понурив голову, встал и застыл у камина, вслушиваясь в себя, в ночь, в жену. Ему чудился её голос – не голос даже, а дыхание, рваное, в клоках, сдерживаемое – то срывающееся в вскрик, то уходящее в глухой шепот. Он представлял, как она, бледная, с вытертым до синевы лбом, с иссохшими губами, вцепляется в скомканную простыню, задыхается, давится криком, а потом с немым отчаянием хватает за руку доктора, словно за спасительный шест в бушующем море, и смотрит на него умоляюще, как обречённый – на судью.
Опять наступила тишина. Зловещая, натянутая, вязкая. Князь поднялся, охваченный странным холодом, и пошёл к двери. Постоял. Приложил ухо.
– Сейчас, сейчас, княгиня… – доносился спокойный, чуть охрипший голос русского доктора, крепкого пожилого человека с уставшими глазами и щетинистой бородой, которую он привычно теребил в минуты напряжения. – Потерпите. Молите Бога, чтобы наставил вас Своим духом… Уже почти… Ещё немного, голубушка моя. Дышите глубоко, как я вам говорил…
– Я не могу… – прошептала она.
– Вы можете. Надо. Господь не посылает больше, чем человек способен вынести.
За окном ветер переменился. Тот, что с Куры, – тёплый, пахнущий камышом и тиной, – сник, и на его место пришёл северный, ломовой, сырой. Он гнал тяжёлые тучи по ночному небу, и с них сперва потёк мелкий дождик, как из решета, потом вдруг повалил мокрый снег. Грузины говорят о таком: «молодой снег за старым пришёл». Он, ленивый, почти равнодушный, кружился над крышами, стелился пластом на лошадиные гривы, на плечи зазевавшихся прохожих, ложился на крыши и темнеющие луга. А над всем этим – небо, пустое, будто забытое Богом, и только две звезды робко пробивались сквозь мглу, как два живых глаза на мёртвом лице.
Князь возвратился к очагу. Камин почти погас – оставался лишь синий, едва заметный язык пламени среди серого пепла. Он подбросил в огонь сухих лозин и дубовых чурок. Запах дымка смешался с ароматом персидского ладана. Дрова затрещали, камин вспыхнул рыжим пламенем, заиграл по стенам, как актёр перед немой публикой. Черты князя – скуластые, вылепленные будто бы рукой строгого зодчего – заострились. На усах, некогда чёрных, как смоль, обозначилась седина. Взгляд его был всё тем же – прямой, живой, словно военный драгунский выстрел.
Он снова опустился в кресло – старое, мягкое, с вдавленным сиденьем, с потёртыми подлокотниками, стоявшее у письменного стола, покрытого зелёным сукном. Под ногами – персидский ковёр, тонкой работы, в котором узоры витали, как сны. По стенам – книги, книги, книги. Ряды корешков на всех языках, которые он знал: грузинский, русский, французский, немецкий, фарси… Байрон и Пушкин сшибались с Саади, Руссо обнимал Руставели. Он сам – переводчик, толкователь, посредник между Востоком и Западом. Он знал Гёте наизусть, и читал его в подлиннике, за чаем с мёдом, по утрам.
– Папа… – тихо окликнул его голос.
Он обернулся. У двери стояла Нина – девочка с чёрными, как вороньи крылья, кудрями, в длинной ночной рубашке. Она не плакала, не дрожала, но в глазах её застыло недетское, тревожное ожидание.
– Папа, а почему мама кричала?
Князь чуть улыбнулся. Поднял глаза на дочь – и в его взгляде была и ласка, и упрёк, и нечто вроде тихого благословения.
– Всё хорошо, дитя моё. Ты ведь знаешь, что у тебя скоро будет братик, правда?
Нина кивнула серьёзно. Лоб её сморщился, как у взрослой, думающей женщины.
– И как же мы его назовём? – спросил князь, протягивая руки.
– Давид, – ответила она.
– Ну, что ж, – усмехнулся он, – пусть будет Давид, коли ты так хочешь.
Дочь бросилась к нему – не поспешно, без кокетства, но резко, как лань, и прижалась к его груди. Он обнял её – твёрдо и бережно. Она была не ласковой, не домашней, не румяной – нет, слишком дикое, гордое племя билось в её венах. Но сейчас она была тиха, и сердце его билось в ответ.
Словно в нём жило два человека. Один – военный, с выправкой, с опытом, с огрубевшим от солдатчины сердцем. Другой – поэт, томимый вечной тоской, пленённый Кахетией, поющий розу и соловья, плывущий в своей грустной, прекрасной утопии, где всё – любовь, и боль, и виноградный сок…
* * *Спустя четверть часа Александр вновь, как в омут, погрузился в раздумья. Мысли его, извилистые, тревожные, незаметно увлекли его далеко – в сырое, сумрачное детство. Петербург вставал в памяти серым маревом, сквозь которое едва проступали черты: тяжелые портьеры в гостиничном номере на Галерной, запах сырости, утренний звон карет, бесконечные лестницы в посольских домах. Но сильнее всего – лицо отца, вечно нахмуренное, тревожное, подёрнутое тонкой сединой преждевременной заботы. Гарсеван Чавчавадзе, грузинский посланник при дворе северной самодержицы… Он являлся туда, во дворец, каждый день, как на службу, облачённый в тесноватый, некстати блестящий русский мундир, подаренный князем Потёмкиным. Являлся с замиранием сердца, целовал властную руку вседержавной Екатерины и, склонившись в поклоне, из раза в раз повторял одну и ту же, почти отчаянную мольбу: выслать два батальона в помощь родному Тифлису, растерзанному Ага-Магомед-Ханом.
Императрица, величавая, добродушная и холодная, улыбалась, обещала, кивала, отпускала остроумие. Гарсеван выходил из приёмной, выпрямившись, но с пустотой в груди. Оставалось ждать. И он ждал, надеялся, истончаясь душой от бессилия. Но тщетно.
Екатерина отступилась. Как отступаются от угодья – беспокойного, далёкого, неприметного в генеральной карте. А тем временем из Тифлиса – спешно, настойчиво, дрожащей рукой – шли депеши от старого царя Ираклия. В каждой – боль, отчаяние, взывание к совести:
«Гарсеван, час настал, – писал Ираклий, – чтобы отдать все силы на защиту отечества, церкви и христианской веры. Нельзя терять ни минуты. Ничего у нас не осталось, всё разрушено. Вам ведомо, что, не будь мы связаны клятвой с Россией, и сохрани мы дружбу с Ага-Магомед-Ханом, сие несчастие миновало бы нас стороной. Во имя Бога приложите старание, дабы исходатайствовать у матушки-императрицы помощь братьям по вере…»
Сердце Александра заныло, сжалось в узел. Он помнил, как отец читал это письмо, стоя, дрожащими пальцами держа пергамент.
А в Тифлисе – тогда, незадолго до вторжения – Ираклий получил другое послание, уже от самого Ага-Магомед-Хана, основателя новой персидской династии Каджаров. То было не письмо, но грозный указ, написанный тоном, достойным Шахнамех:
«Именем Всевышнего Бога, ибо велика есть слава Его! Указ, которому Вселенная повинуется. Высокопочтенный, высокоместный, счастливейший, избраннейший из царей Грузинских, царь всея Грузии Ираклий, сим монаршим благоволением нашим Тебя возвышая, напоминаем: Ваше Величество есть также иранец, равно деды и прадеды Твои происходили до ста колен из роду иранцев же.
Я удивляюсь тому, что ты заодно с россиянами, кои с давних времён только и знают торговлю и промысел. А ты – с ними соединяешься, тех неверных допускаешь и волю им даёшь, вызывая народные возмущения.
Хотя Ваше Величество с нами не единозаконец, но по происхождению – единоземец. Как в Иране нашем живут мусульмане, турки, армяне, грузинцы – все суть подданные нашей милости. Тебе надлежало бы помнить об этом.
Учинённому прошлогоднему разорению и погибели грузин Ты сам виною: наша власть сильна, но не зла. Ныне же мы, по милости Всевышнего, прибыв на место царствования нашего, уведомляем: если Ты – благоразумен, как говорено, отступись от союза с неверными.
А коли пребудешь в упорстве, то скоро найдёшься под шатрами нашего государства. И, при помощи Всевышнего, сделаем из крови российских и грузинских народов реку, текущую наподобие Куры…»
Слова эти, как зловещая рана в памяти. Александр точно слышал их снова, точно видел, как Ираклий, осунувшийся, с поседевшей бородой, сидел над этим свитком, качал головой, приговаривал:
– Брат ли мне хан, коли меч его точится на христиан?
…Пламя в камине вдруг хрустнуло, вспыхнуло сильнее. Александр вздрогнул. Ветер за стенами дома стонал, как голос тех дней. Тифлис – растерзанный, запорошенный снегом, он и сейчас, будто в воспоминании, стоял перед его глазами.
…Вскоре, на заре сентября 1795 года, степи закипели гулом и пылью: персидское воинство Ага-Магомед-Хана, подобно орде Аттилы, скатилось к подступам Тифлиса, встав лагерем в семи верстах от предместий столицы. Поле чернело шатрами, земля дрожала от конского топота, и будто сама природа замерла в ожидании грозного удара.
Ни времени, ни сил для сопротивления у царя Ираклия не осталось. Грузия, истощённая и полупустая, не успела собраться под ружьё. Из обещанных сорока тысяч воинов к знаменам царя Картли-Кахетинского явилось лишь пять тысяч, храбрых, но обречённых, и стояли они против несметного, как море, тридцатипятитысячного войска кызылбашей. Их сравнивали с саранчой, с бурей, с огнём, пожирающим всё живое: надвигались, неся гибель, и не было от них спасения, как от проклятия небесного.
Единственный, кто обладал властью повелеть русским батальонам выступить на защиту Тифлиса, был генерал-аншеф Иван Васильевич Гудович, хранивший Кавказскую линию. Но и он, связанный по рукам и ногам царским регламентом, не осмелился двинуть войска без высочайшего соизволения. Что мог он сделать, если, как рассказывал отец, по всей линии, от Черноморья до Владикавказа, в подчинении у него находилось не более пяти тысяч солдат регулярной армии? Даже с донскими и терскими казаками не выходило в сумме и десятитысячного корпуса. А ведь каждый солдат был нужен на вес золота, ибо стоило Гудовичу оголить рубежи – и на Линию немедля хлынули бы ногайские шайки, лезгины с Каспийского побережья и, не дай Бог, удар с тыла от турецких пашей.
Гудович был человек не только военной выправки, но и рассудительности. Он не мог бросить Ираклия II на произвол судьбы, понимая, что за этим последует. Одно его перо черкнёт – и весь Кавказ окажется в руках персов. Ведь старый царь, избитый судьбой и преданный союзниками, мог в минуту отчаяния склониться перед саблей завоевателя, принять союз с Тегераном против Петербурга – и всё, на что была потрачена кровь и казна России, обратилось бы в пыль.
Взвесив всё, генерал сел за письменный стол, и рука его вывела два послания. Первое – к Екатерине Великой, с подробным изложением опасности, нависшей над Закавказьем, с проектом решительных действий против Каджаров, с просьбой о подкреплениях, артиллерии, о праве действовать без ожидания сенатских указов.
А второе письмо – к самому царю Ираклию. В нём – не приказы, не упрёки, но совет:
«Вашему Величеству надлежит ныне, яко опытному и прозорливому государю, при помощи дипломатии удержать врага на расстоянии. Переговорами можно выиграть время, а время ныне драгоценнее всех армий. Да не допустим скоропалительных решений, ибо союз, заключённый в гневе и отчаянии, ведёт к погибели. Россия помнит союз с Грузией и, по возможности, исполнит своё слово».
Так на краю бездны судьбы великие державы вновь играли в осторожные ходы и тяжёлые молчания – а где-то уже ржали кони Ага-Магомеда, и барабаны стучали по ночам, возвещая приближение бедствия, сравнимого разве что с нашествием Тамерлана.
Несмотря на всю беспомощность Тифлиса, открытого, словно грудное дитя, пред ликом смерти, царь Ираклий, седовласый и неустрашимый, решил встретить врага лицом к лицу. В сражении при Соганлуге грузины храбро обрушились на авангард персидского войска, обратили его в бегство и нанесли ему чувствительный урон. Радостные гонцы разнесли весть о победе по всей стране, словно весенний ветер несёт аромат цветущих садов.
Сам Ага-Магомед, повелитель Персии, знавший по опыту воинскую доблесть и неукротимую волю к свободе грузин, призадумался: не лучше ли оставить свой замысел и отступить от Тифлиса? Он помнил победы Ираклия, некогда громившего несметные орды врагов, и сердце его колебалось. Но вражеская рука, продажная и бесстыжая, нашлась и здесь: тайный гонец, подосланный предателями, сообщил персам истину – защитников города ничтожно мало. Вдохновлённые этим открытием, персы с новою яростью ринулись в наступление у Крцаниси.
Словно бушующее море, волна за волной катящее на берег, сшибающее всё на своём пути, так и полчища кызылбашей с неумолимой яростью обрушились на ряды грузинских воинов. Люди бились, потеряв человеческий облик, – как звери, сражались живые, попирая мёртвых. Гора окровавленных тел вздымалась на поле брани, и земля, как губка, впитывала кровь сыновей Картли и Кахетии.
Старый царь, сединой осыпанный и благородный, сражался как лев в кольце врагов. Семьдесят пять лет носило его сердце грузинскую корону, и в час бедствия оно не дрогнуло. Окружённый, одинокий, он стоял в самом центре вихря. Тогда царевич Иоанн, его внук, с горсткой доблестных храбрецов прорвался сквозь строй, схватил деда и, пробив кольцо, вынес его с поля битвы. Их отход прикрывал отряд в триста арагвинцев – триста избранных, что, как спелые колосья под серпом, легли под саблями врагов. Перед боем они поклялись:
– Если победа ускользнёт от нас, и мы не устоим – пусть будет посрамлён тот, кто вернётся живым домой! Или смерть, или слава!
И клятву исполнили: ни один не отступил, ни один не дрогнул, ни один не сберёг своей жизни. У Южных ворот Тифлиса, с обнажёнными саблями, они стояли до конца, и каждый пал, покрыв имя своё славою. Их тела, перемешанные с вражескими, унесли в себе последнюю молитву и были погребены прямо там, под грудой мёртвых, где дышал когда-то цветущий сад Картли.
Господи, да помяни их души в Царствии Небесном!
Но зверь, выпущенный на волю, не знал ни меры, ни пощады. Орда персов ворвалась в Тифлис, и шесть дней длилось то, что не выразить человеческим языком. Православные храмы были осквернены, митрополит, замкнувшийся в Сионском соборе, низринут в Куру с террасы своего дома; священники – изрублены. Жителей грабили, резали, уводили в рабство; половина города исчезла в неволе.
На Авлабарском мосту персы установили икону Пресвятой Богородицы Иверской и принудили тифлисцев глумиться над святыней. Кто отказывался – тот рассекался пополам, и вода Куры, некогда чистая и быстрая, запрудилась телами мучеников, и река потекла, как кровь из раны.
Никто не пощадил ни младенцев, ни старцев, ни женщин. Девочки, едва достигшие десяти лет, и почтенные дамы в покрывалах – все они были розданы сарбазам в качестве добычи. Тифлис, некогда гордый и утончённый, был обращён в прах. Дома сожжены, дворцы разрушены, ничего не осталось, кроме руин и пепла. Царский дворец – срыт до основания. Только ворота, как свидетели прошедшего, стояли посреди безмолвия. Пушечный завод, арсенал, монетный двор – всё стёрто с лица земли.
По дороге за Банными воротами лежали тела мучеников: стариков, женщин, детей – всех, кто не захотел отречься от веры.
А сам царь, измождённый, но не сломленный, с малым остатком верных ему воинов отступил в Ананурскую крепость. И оттуда, в последний порыв гордости и веры, он писал Ага-Магомеду:
«…Я сделаю всё, дабы спасти отечество. Ибо сердца всех грузин полны негодованием и мукою. Знай же, что Императрица Всероссийская, наша единоверная заступница, не потерпит того, что творишь ты с нами».
Тем временем сам Ага-Магомед-Хан, нагой, как первочеловек в час изгнания из рая, предавался мрачному наслаждению в тёплом нутре тифлисской бани. Из глубин земли по глиняным трубам стекалась горячая серная вода, насыщая паром воздух, насыщенный древними запахами тел и пота, и клубилась, поднимаясь к выложенному из кирпича своду, откуда редкие косые лучи света пробивались сквозь отверстия в куполе. Эти тусклые лучи едва озаряли кирпичные стены, стены немые, свидетели вековых бесед, заговоров, банных свадеб и тайных исповедей.
Пол под ногами шаха был выложен плитами серого, пористого камня – камня той самой земли, которую он ныне попрал и осквернил, – из него же был сооружён широкий бассейн, облицованный голубыми изразцами, обвитый мозаичными лентами восточного орнамента. В передней лежали персидские ковры, сукна всех цветов радуги покрывали скамьи с продолговатыми подушками – мутаками, на которых иные когда-то мечтали о любви или толковали о торговле.
Здесь, где прежде весело смеялись тифлисские свахи, устраивая смотрины невест, где до рассвета пировали и заключали купеческие сделки, ныне раздавались лишь стоны и хрип, – не от восторга, но от боли. Слабое тело шаха, безволосое, точно у ребёнка, но исполненное ярости, подвергалось жестокому «очищению»: здоровенные банщики – татары-мекисэ – с деловитой яростью выкручивали ему руки и ноги, колотили по спине тяжёлыми кулаками до тех пор, пока он, скрежеща зубами, не терял рассудка, а с ним – и чувство собственного могущества.
Один из банщиков, грузный и мрачный, как мясник, ловко вскочив шаху на спину, начал топать по ней своими косматыми ногами, будто месил хлебное тесто для похоронной трапезы. Затем, надев на руку мокрый холщовый мешок, раздул его, хлопнул с размаху по пурпурной спине повелителя Персии, прошёлся этим орудием вдоль его искривлённого тела – от жилистой шеи до безобразных, ввалившихся бедер, между которыми зияла пустота, достойная бездны. После чего сбросил измождённого шаха с каменной лавки в бассейн, как сбрасывают обескровленного быка после ритуального заклания.
И вот он лежал в мутной, вонючей воде, сквозь клубы пара вглядываясь в зыбкое отражение своей ненависти. Его тонкое лицо, как вырезанное ножом из воска, сжималось от злобы. В глазах горел тёмный, жестокий огонь, уголья старой вражды не потухли – тлели, дымились, ждали лишь дыхания мщения, чтобы вспыхнуть с новой силой. Он думал об Ираклии.
– Старый лис… – прошептал хан, глядя в тёмную воду, словно ища там лик своего врага. – Ещё дышит… ещё вьётся, как уж на горячем песке… А я ждал, что приползёт просить пощады… Нет, всё держится. Но я сломаю его…
Он сжал кулак – вода разошлась кругами. В его памяти всплывали годы былых унижений: как Ираклий II, несмотря на старость, дерзко не раз обводил мечом его армию, как отбрасывал послов с наглыми ультиматумами, как не склонялся, как всё ещё звал на помощь свою «единоверную» – русскую императрицу.
– Пусть зовёт, – прошипел хан, – пусть зовёт свою Екатерину… До Каспия мне подчинены – а скоро и за Кавказом не останется камня, что не знал бы моего имени…
Его плечи вздрогнули. Не от холода, не от страха – от предвкушения. Он поднялся из воды, тяжело, как восставший из гроба мертвец, и капли мутной серной воды стекали по его хребту, словно нечистая кровь, смывающая следы преступления.
Когда-то, во времена былые, ещё до восхождения звезды Ираклия на политический свод Кавказа, великий властитель Персии Надир-шах, грозный, непредсказуемый, как само божество войны, повелел взять к себе во дворец юного грузинского царевича из древнего рода Багратионов. Якобы – для обучения наукам и воинскому искусству. В сущности же – как заложника, живой щит, живую печать на мирах и договорах, связывавших Персию с северными пределами.
Юноша – мальчишка ещё, но с открытым умом, гибкой речью и гордым взглядом, – скоро покорил сердце шаха. И этот волк, омывший в крови полмира, с удивлением нашёл в себе тень отеческого расположения к юному Ираклию. Он даже пригласил его принять участие в походе на Афганистан. В сражении под Кандагаром, среди копий, стрел и свиста сабель, царевич, которому едва исполнилось семнадцать, уже командовал грузинской конницей и первым ворвался в стены города. Тогда многие увидели в нём не только заложника, но полководца, и даже – предвестника иных времён.
Разорив Афганистан, Надир-шах двинулся в Индию – не столько ради сокровищ, сколь по жажде славы и грабежа. Но юный грузин и здесь отличился: среди драгоценностей, рассыпанных, как сор, среди ковров, сшитых из жемчужин и алмазов, он оставался равнодушен. Не золото, но утончённая красота человеческого искусства пленяла его. Он был аскетичен, немногословен, суров к себе и непроницаем к лести. Слово его стоило веса меча, и даже шах, привыкший к поддакиванию, внимал ему как мудрецу.
Однажды, во время индийского похода, перед войском появился истёршийся от времени каменный столб. На нём был высечен идол и угрожающая надпись: «Да будет проклят навеки со всеми потомками тот, кто переступит сей рубеж». Суеверные персы встревожились, в лагере началось роптание. Солдаты отказывались идти вперёд. Тогда Ираклий, не меняясь в лице, молвил: – Выроем столб и понесём его пред собой. Никто не преступит проклятия, ибо никто не переступит за него.