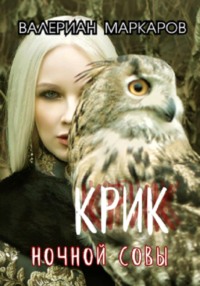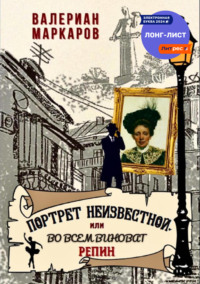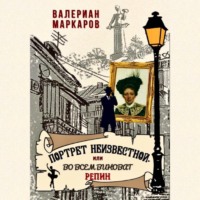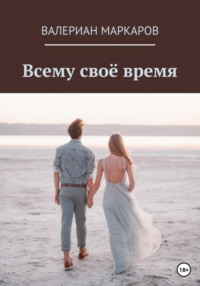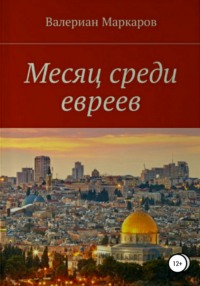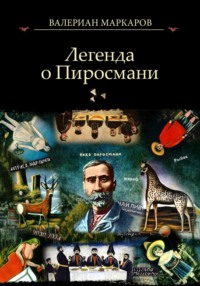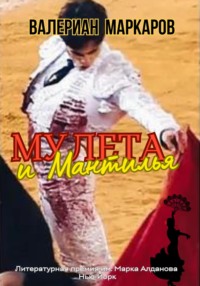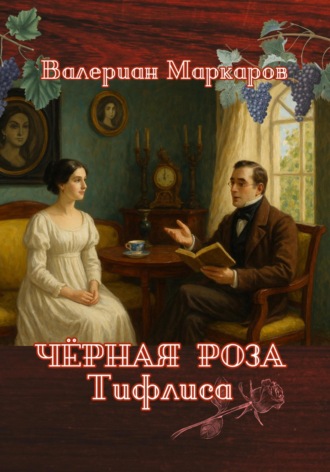
Полная версия
Черная роза Тифлиса
Шах, поражённый остротой ума и простотой решения, обнял царевича и тотчас приказал исполнить сказанное. Отныне слово Ираклия стало законом. Вслед за этим Надир-шах вступил в Дели – под пение рабов, звон цепей и грохот аркебуз, и, собственноручно, как бы услаждая свою жажду трофеев, отобрал у падишаха Моголов несметные сокровища, среди которых был и алмаз «Кохинур» – камень столь блистающий, сколь и проклятый.
Говорили: кто владеет «Кохинуром», того ждёт гибель, кто надевает его – тот теряет разум. Так случилось и с самим Надиром. Возвратившись в Персию, он будто бы перешёл грань человеческой меры: стал подозрителен, мрачен, не доверял ни жене, ни визирю, ни собственной тени. Мятежи, предательства, заговоры сыпались на него, как сыпется вьюга в безлунную ночь. И, в конце концов, – был он заколот, как бешеный зверь, собственными приближёнными. Умер не своей смертью.
Но за несколько дней до своей гибели – быть может, предчувствуя развязку, быть может, желая оставить завещание – он велел позвать Ираклия. Тот, уже утверждённый царём Кахетии, прибыл в персидский дворец. И стал невольным свидетелем страшного зрелища: на его глазах евнухи оскопляли шестилетнего мальчика – наложника из рода Каджаров, сына некоего Хасан-хана. Мальчик кричал, как ягнёнок, но крик его тонул в ритуальных песнопениях. Шах, казалось, ничего не слышал.
Царевич Ираклий стоял, словно окаменев, перед страшной картиной: кровь, блеск ножа, полная тишина – и глаза ребёнка, наполненные ужасом. Мальчика звали Ага-Магомед. Он дрожал, как осиновый лист, но в глазах его – тех самых, в которых потом, через десятки лет, вспыхнет злоба и ненависть, – уже таилась воля жить и мстить.
Тогда никто ещё не знал, ни Ираклий, ни сам пострадавший от рук шаха отрок, как тесно и трагически сплетутся их судьбы: как однажды Ага-Магомед Хан станет палачом Грузии, а имя Ираклия – проклятием на его устах.
Долгие годы Ага-Магомед оставался в плену, прозванный презрительно Ахта-ханом – Евнух-ханом, как клеймом, наложенным на его память, плоть и душу. Его тело было тщедушно, невелик ростом, но душа – безмерна в своей злобе, как степь в ненастье. День за днём он впитывал в себя ядовитую желчь обиды, и в глубоко впавших глазах его теплился мрак той ненависти, что со временем вырастает в державу.
Он не знал милосердия – да и не просил его сам. Когда судьба подняла его над Персией, он превзошёл в жестокости всех шахов, бывших до него. Каждый, кто ведал унизительную тайну его телесной утраты, был обречён: исчезал бесследно, как тень на знойной стене. Объединив разрозненные тюркские племена, Ага-Магомед повёл их на Персию – как на великую жатву. Он вошёл в Исфахан, захватил Шираз, распяли Керман. Там, в Кермане, в городе, некогда славившемся изяществом своих мастерских, двадцать тысяч мужчин были ослеплены – и каждый день к ногам шаха приносили корзины с глазами. Он пересчитывал их лично, ощупывая, как чекан, трофеи своей мести. Женщины – восемь тысяч душ – были отданы на поругание воинам, остаток обращён в рабство. Из шести сотен отрубленных голов сложили во дворе шахского дворца пирамиду – немую летопись страха и ужаса, видимую за вёрсты.
Насладившись порядком в Персии, шах обернулся к сопредельным землям – к Грузии, к Карабаху. На подступах к Тифлису он поставил за спинами своей армии особый полк – тысячи туркмен. Их назначение было просто: убивать тех, кто отступит. Он знал – страх смерти от своих страшнее смерти от врага.
Царю Ираклию он направил письмо – в нём было всё: угрозы, презрение, надменность. Ответ был краток: «Лучше умереть в бою, чем отдать город евнуху».Это было не дипломатией. Это было плетью по лицу. Шах вспоминал: тот мальчишка, грузинский царевич, видел, как его – сына каджарского вождя – приговорили к вечной немужской участи. В глазах того царевича – Ираклия – застыло нечто хуже жалости: спокойное презрение.
Ага-Магомед возненавидел его. Не как врага – как того, кто стал живым напоминанием о старом унижении.
Он двинулся на Тифлис. И город пал. Был сожжён дотла, предан забвению. Отныне – лишь дым, пепел, стоны. А шах, довольный и утомлённый, спустился в царскую баню у подножия Нарикалы. Ему сказали: воды её целебны, даруют юность и мужскую силу. Он верил. Хотел верить. Он опустился в воду, потом встал, медленно ощупал себя – пустоты его не исчезли… … И тогда лицо его исказилось яростью.
– Принести одежды! – вскричал он. – Немедленно!
А выйдя из бани, приказал:
– Отсечь голову банщику, что видел меня. И стереть с лица земли эту баню – до последнего камня!
Долго в Грузии он не остался. Тишина – мука для кызылбашей. Без войны нет добычи, без добычи – голод. А голодный сарбаз не будет терпеть: он обратит меч на соседа, на вождя, на самого шаха. И вскоре шах ушёл – в Хорасан. Там ждали его узбеки, туркмены – новые жертвы в счётах прошлого.
А в Грузии поселилась чума. И голод. И смерть.
Утром на улицах Тифлиса можно было видеть собак, гложущих человеческие кости. Дым ещё не рассеялся, и в нём слышался плач младенцев.
Боже, какие же тяжкие испытания выпали на долю моего народа, размышлял Александр Чавчавадзе в тишине ночи. Со времен монголов грузины не помнят такого разорения Тифлиса.
Поражение стало для Ираклия ударом не столько военным, сколько духовным. Тяжесть утраты, горечь стыда и внутреннее сокрушение легли на старое сердце грузинского царя. Он удалился в Телави – не как государь, но как кающийся грешник, как монах, прячущий слёзы в безмолвии кельи. Там, в прохладной тени платанов, под мерный звон колокольчика монастырской службы, он проводил дни в посте, молитве и горьком раздумье. Оттуда и было отправлено им последнее письмо верному другу и сподвижнику, Гарсевану Чавчавадзе – письмо, полное скорби и горького мужества:
«Годы мои сочтены, Гасеван. Отныне не подобает мне, да и сердце мое не желает, чтобы я, покорно опустив голову, сидел где-то в углу в присутствии Ага-Магомед-Хана и слушал противный моему сердцу голос скопца, издающий приказы и запреты…»
И всё ж – молитвы, стоны и вопли грузин не пропали во тьме. Из Петербурга, где до сих пор не смолкала память о славных деяниях князя Потёмкина, долетели, наконец, вести. Великая Екатерина, что видела на Кавказе будущий бастион империи, велела привести в исполнение дерзновенный замысел покойного фаворита: отомстить за Тифлис и положить конец владычеству скопца, «ужаса Востока». В узком кругу приближённых она объявила: «Надлежит опрокинуть скопище Ага-Магомед-Хана поражением и преследованием, искоренить властителя сего, если дерзнёт он до конца противиться пользам и воле нашей». И командование возложено было на юного и блистательного графа Валериана Зубова.
В кратчайший срок были сформированы две пехотные и две кавалерийские бригады, и с лязгом, грохотом и сожжённым порохом двинулось вперёд русское воинство, как весенний разлив, затапливающий всё на своём пути. Земля дрожала от грохота пушек, ядра со свистом и рёвом рассекали воздух, знамёна Императрицы развевались над дымом и пеплом захваченных крепостей.
Одна за другой пали ханства Казикумыкское, Дербентское, Бакинское, Кубинское, Ширванское, Карабахское, Шекинское, Ганжинское. Победоносное русское воинство, не встречая сопротивления, пересекло Куру, прошло Муганскую степь, и, подобно лавине, появилось в самом Гиляне, у подножия персидских гор. Казалось, сам Ага-Магомед-Хан, «лев львов», должен был выйти против Зубова – и кто знает, чем бы окончилась та встреча двух миров…
Но история – капризна. 6 ноября 1796 года императрица умерла. И с её кончиной всё изменилось. Воцарился Павел Петрович – человек иной воли, иного ума. Он отверг все порядки материнского царствования. И первой своей государственной мерой повелел: прекратить персидский поход. По личной нелюбви к роду Зубовых, он отозвал Валериана, предал его опале, и, будто велением рока, приказал армиям немедленно покинуть завоёванные земли и вернуться в прежние границы.
Так рухнул великий замысел. И узнав о поспешном отступлении русских, Ага-Магомед-Хан ободрился. Он вновь собирался в поход – на Грузию, на Тифлис. И снова земля вздрогнула от шагов его сарбазов.
Но не всегда меч шаха достигает сердца врага.
В одну из ночей Рамадана, когда хан покоился в шатре, усталый и удовлетворённый, его ждали двое слуг – те самые, чью казнь он отсрочил до утра из почтения к святому посту. И, как часто бывает, милость оказалась губительной. Когда сон овладел телом тирана, слуги вошли и, не проронив ни слова, вонзили кинжалы в его тело. Так окончил жизнь Ага-Магомед-Хан – в собственной постели, от руки собственных людей.
Смерть тирана породила смятение. Армия, лишённая предводителя, обратилась в бегство. Поход на Тифлис был отменён. И над развалинами некогда сожжённого города забрезжил свет. Грузия была спасена.
А на заре, под седыми стенами Телавского монастыря, старый царь Ираклий, склонив голову, долго молился – о душе врага, о судьбе Отечества, и о том, чтобы Господь даровал грузинскому народу мир хотя бы на одно поколение…
Князь медленно поднялся. Склонившись над подсвечником, зажёг свечи в высоких золочёных светильниках, отливавших мутным блеском в сумерках зала. Затем, тяжело ступая в чёрных, чуть поскрипывающих сапогах, подошёл к камину. Над мраморной его аркой висел портрет отца – грозного и величавого Гарсевана Чавчавадзе, изображённого в генеральском мундире, при орденах и знаках отличия, коими жаловали его монаршие руки в награду за верноподданническую преданность.
Князь привычно взял железную кочергу, по-хозяйски разворошил угли, пригасшие в золе, и бережно подбросил пару сухих поленьев. Пламя тотчас взметнулось, зашипело, затрещало – с живой жадностью пожирая дерево. Отблеск огня заиграл на стенах, вспыхнул на лакированной мебели, бросил колеблющиеся, почти живые тени на портрет отца. В этом неестественном свете лицо Гарсевана потемнело, черты его словно сжались в немом укоре, а глаза, освещённые косым пламенем, казались глядящими прямо в душу сына.
Князь отвёл взгляд. Мысли его поневоле вернулись к прошлому.
Да, – думал он с горечью, – участь отца его, Гарсевана, всегда оставалась щекотливою и трагично двойственной. Он знал: Россия, приласкав Грузию, не пощадит в ней престола её царей – спишет их на свитки истории. Но иного выхода не было. Отец ясно видел: без великодержавной опоры гибель неминуема – и от турка, и от перса, и от внутренних раздоров. Выбрав меньшее из зол, он вверил страну покровительству Екатерины – и остался верен Ираклию до последнего издыхания. Часто повторял: – Малому народу в одиночку не выжить. Нужен ему сильный союзник, дабы, укрывшись под щитом великой державы, он мог сберечь своё «я», свою душу…
Так и умер он в Петербурге – чужой столице, на чужбине, где небо низко и воздух тяготит грудь. И он, сын его, сам возглавил траурную процессию, чтобы проводить тело отца в Александро-Невскую лавру, в родовой склеп, под тяжёлую гранитную плиту вечного молчания.
– Может, прав был отец… а может, и нет… кто скажет? – пробормотал князь. – Что было бы с нашим отечеством, окажись оно провинцией Турции или Персии?.. Даже в такой день, когда жду наследника, спрашиваю себя: когда же я был прав? Тогда ли, когда сражался рядом с царевичами, свергнутыми и униженными, против русского государя? Или тогда, когда, уже в строю имперской армии, подавлял восстание кахетинцев, своих соотечественников? За то восстание мне был вручен орден Святого Владимира… но ведь не даром, нет – кровью платил я, кровью братской…
Он замолчал, тяжело опустившись в кресло.
– Выходит, два Чавчавадзе борются во мне, как в чаше, наполненной разнородными винами… – выдохнул он глухо. – Не знаю. Не знаю… Одно лишь скажу с уверенностью: и тогда, и потом – я был искренен. Верил. И шёл за правдой, как понимал её.
Из соседней комнаты вдруг донёсся пронзительный, почти животный вскрик – такой, что Александр, словно поражённый током, вскочил на ноги. И тут же, следом за криком – другой, совсем иной: негромкий, прерывистый и живой. Первый крик ребёнка, смутный и решительный возглас новой жизни, раздавшийся в тускло освещённом доме.
– Слава Богу… – прошептал князь и, обессилев от тревоги, подошёл к окну.
Снаружи всё стихло. Ветер улёгся, как взбешённый зверь, насытившийся буйством. Снег перестал падать. Над Тифлисом небо прояснилось, последний облачный вал растворялся в вышине, а за ним вставал холодный, но чистый свет. Дом казался остановившимся в ожидании.
Послышались быстрые, нетвёрдые шаги, затем – скрип двери. Александр резко обернулся.
– Поздравляю вас, князь, поздравляю с новорождённою! – проговорила повивальная бабка, вбежавшая в комнату, с лицом, сиявшим от облегчения и радости.
– Как? Девочка? – переспросил он глухо, словно ожидал иного.
– Девочка, князь… Маленькая, розовая, с тонкими ноготочками… Красавица! Точь-в-точь мать. Слава Богу, здорова. Дай ей Господь счастья…
Но на лице князя скользнула тень. Брови его сдвинулись, взгляд помрачнел. Он сдержал досаду – ту самую, что подчас приходит не от злобы, но от неосуществившегося ожидания. И, будто ища спасения от собственных мыслей, решительно направился в спальню.
В комнате было тихо. У изголовья – бледная, измученная Саломэ, но в глазах её уже блестело другое – тихое, материнское счастье. А возле неё, на подушке, аккуратно запелёнутая в белоснежный свивальник, дремала новорождённая. Её крохотное лицо казалось не земным – почти прозрачным, с едва намеченными чертами, как у спящей феи.
Князь опустился на колени у ложа жены, приник к её руке и долго держал её в ладони, не находя слов. Потом осторожно взял младенца на руки. Он смотрел на дитя пристально, как смотрит воин на знамя, впервые вручённое ему перед боем.
В это мгновение в комнату неслышно проскользнула старшая дочь, Нина. Она подошла, как во сне, и, ничего не сказав, тихо прижалась к груди матери, закрыв глаза. Саломэ обняла её обеими руками – дрожащими, утомлёнными, но полными бесконечной нежности.
За окнами вновь выплыл из-за облаков бледный месяц – тонкий, как бритва, серп, повисший в серебристом небе. Последняя звезда, будто задержавшаяся для прощания, затрепетала и исчезла. За горами уже разгоралась аловатая полоска зари, и ветер, став почти ласковым, прошуршал по крышам, касаясь мокрой листвы и тёмных кустов, словно утешая их ночные страхи.
Перед самым рассветом дом Чавчавадзе затих. Всё живое в нём заснуло – и мать, и дети, и даже собаки внизу, у порога. Один лишь князь, приученный к воинской выправке, поднялся с первым светом. Он вошёл в кабинет, открыл старый фамильный молитвенник и, помедлив, начертал имя: Екатерина. Так нарёк он дочь – в знак глубокой почтительности к своей крестной – великой государыне Екатерине Второй, чьё имя и судьба были для него сродни обету.
Глава 3
Семья Александра Гарсевановича Чавчавадзе была в Тифлисе в уважении столь глубоком, что ни один порядочный грузин не проходил мимо их дома без теплоты в сердце, как не проходят мимо родного очага. А всякий русский человек – занесённый ли сюда службой, сосланный ли судьбою, или, напротив, стремящийся к этим горам за вдохновением – в стенах дома Чавчавадзе, как по мановению чуда, вновь обретал дыхание родины.
Пока строился их собственный, просторный дом – с колоннами и балконами, с видом на обрывистые склоны и долину Куры, – князь с семейством своим: супругой Саломэ, детьми, старой матерью Мариам – снимали небольшой каменный флигель в глубине сада у вдовы Прасковьи Николаевны Ахвердовой.
Дом Ахвердовой, увитый плющом и наполовину скрытый тенью фруктовых деревьев, стоял под горой, неподалёку от Сололакского ручья, чьё журчание напоминало шёпот младенца. Вокруг – тенистый сад, в котором росли старинная яблоня, величественная груша, пунцовый гранат, смолистая слива и сочный виноград. Ветви деревьев склонялись друг к другу, будто советуясь, и в их задумчивом шелесте слышалась какая-то древняя восточная сказка. А вдали, за извилистой лентой Куры, тонкой серебряной трелью заливался соловей – певец без отечества, но с душой, схожей с душой этого города.
То было благословенное время. Время, когда рождался новый Тифлис – город, будто сложенный из разноцветных стёкол, обточенных морем и временем, склеенных тончайшей вязью случайностей и судеб. Не было в нём беспорядка, как могло бы показаться, – напротив, во всем чувствовалась неуловимая, живая гармония: стройное сосуществование несхожих, а порой и враждебных начал.
Персидское и армянское, грузинское и русское, тюркское и курдское, греческое и еврейское, французское и немецкое, казачество и кавказская вольница – всё это сливалось в ослепительный узор Тифлиса, в его пышную красоту, где соседствовали нищета и роскошь, бесхитростность и притворство, произвол и правосудие.
Вслед за купцами ступила сюда европейская мода, европейская одежда, светские манеры и приёмы, фортепиано и разговоры – всё это стремительно вошло в дома и судьбы. Восточные инструменты умолкли, и вместо шумных карачохельских кутежей пришли бальные залы и мазурки. На лице города проступили белила и румяна – словно он, этот древний Тифлис, сам пожелал молодиться перед новой эпохой.
Но, как всегда бывает в пору перемен, мода опередила смысл. За внешней роскошью и новизной не все успевали уловить дух перемен. Так разгорелся спор – настойчивый, иногда беспощадный – между стариной и новизной, Востоком и Западом. Между теми, кто хотел сохранить родовое древо нетронутым, и теми, кто стремился пересадить его в чужую землю, под иное небо.
Прасковье Николаевне Ахвердовой, в девичестве Арсеньевой, минуло сорок пять лет. Родом из Петербурга, она получила там блестящее образование – с гувернантками и наставницами, с музыкой, языками и Шампионским садом. Но судьба привела её в эти южные края, и, несмотря на сдержанность нрава, Прасковья Николаевна решилась на то, что многим показалось бы странным и неприличным: в тридцать два года, уже не в поре первой юности, она вышла замуж за армянина, генерала Ахвердова – вдовца, широкоплечего, с орденами и двумя малолетними детьми.
На неё посматривали с удивлением – кто-то снисходительно, кто-то с тревогой, но спустя годы стало ясно: брак оказался счастливым и достойным. Вскоре у неё родилась собственная дочь, и жизнь потекла в заботах и хлопотах, не лишённых гармонии. Через пять лет после свадьбы генерал скончался, оставив вдове и детей, и дом, и состояние. Прасковья Николаевна, не склонная к жалобам, взяла в свои руки управление имением, воспитание детей, и, по общему мнению, управлялась с этим лучше любого мужчины.
Петербург, разумеется, не забыл её: там остались родня, друзья, гимназические подруги и танцоры минувших балов. И всякий петербуржец, занесённый в Тифлис – по службе ли, по ссылке или в поисках приключений, – первым делом спешил к ней. А в её доме и вправду принимали всех радушно, но непременно с одним условием: чтобы гость умел хотя бы сносно говорить по-французски.
Вот скромный, вечно неловкий Кюхельбекер, постукивающий в калитку с видом заговорщика, – старинный друг, с которым у Прасковьи Николаевны были особенно тёплые отношения; вот сам Грибоедов – то молчит, то вдруг садится за фортепиано и играет часами. То приезжие офицеры, знойные, шумные, жаждущие не только хлеба и соли, но и просвещённой беседы, – и всем хватало места, и всем находилось дело.
Они разглядывали восточную резьбу на дверях, касались ковров, ещё сохранивших мягкость былого богатства, и с жадностью перебирали книги в старинных шкафах: Саади, Гафиз, Шекспир, Гёте, новые английские журналы, газеты с гравюрами. Самой хозяйке принадлежала вся эта гармония – с её наблюдательностью, живым умом, образованностью, обаянием и редким талантом поддерживать разговор – с кем угодно, о чём угодно.
Но более всего в доме Ахвердовой было детей. Дом звенел от их голосов. Кроме собственной дочери, под её попечением находились племянницы покойного мужа – Анна и Варенька Туманова, дальняя родственница. А ещё – дети Чавчавадзе: Нино, Катя и Давид. Дома Ахвердовой и Чавчавадзе, по существу, давно слились в один – как и семьи. Ведь мать генерала Ахвердова была родной сестрой тёщи Александра Гарсевановича.
Княгиня Саломэ, жена Александра, страдала от постоянных недугов, – как она сама выражалась, «рюматизма», – и частенько лежала подолгу в постели. Прасковья Николаевна, не дожидаясь просьб, добровольно взяла на себя почти все материнские заботы. Она была строга, но справедлива, терпелива, но наблюдательна. Успевала давать детям уроки французского, музыки, – кого бранила за нерадение, кого хвалила за усердие, – и при этом умела сохранять ту самую золотую середину: не потакать в важном и не притеснять в пустяках.
Так жила она – в нескончаемой череде обязанностей, бесед, забот, но ни на миг не теряя достоинства. Дом её стоял, как маяк, для всех, кто искал света среди пёстрого многоязычного и многоликого Тифлиса.
Старшей дочери Александра Гарсевановича, Нине, было всего шесть лет, когда Прасковья Николаевна Ахвердова, человек светских правил и строгого вкуса, вплотную занялась её воспитанием. Девочку обучали в духе европейского образца: француженка поправляла произношение, Прасковья Николаевна следила за осанкой, за манерами, за книгами в руках и даже за тем, как Нина благодарит за угощение. Она понимала: девочке предстоит жить в мире, где изящество должно сочетаться с достоинством, доброта – с умом, а речь – с благородным, пусть сдержанным, чувством.
Вслед за Ниной подросли и другие дети Чавчавадзе – неугомонная выдумщица Катя, с глазами, полными света, и курчавый упрямец Давид, чей нрав требовал твёрдой руки. Все они, за исключением младшей Софьи, рождённой уже после возвращения Прасковьи Николаевны в Петербург, воспитывались в этом добром, строгом и просторном доме, где каждый уголок дышал культурой, знанием и терпением.
Но Нина… Ах, Нина занимала в сердце Прасковьи Николаевны место особое. Эта девочка, и в младенчестве отличавшаяся какой-то глубокой чуткостью, чем старше становилась, тем больше пленяла. Не только своей красотой, стройностью, тихой статью, – нет. В её лице, тонком и смуглом, с ясной линией лба и тёмными, бархатными глазами, таилась тень печали, глубокой, непонятной, будто доставшейся ей от прежних времён. И эта печаль придавала её облику особенную нежность. Нина была тиха, скромна, совершенно лишена девичьей надменности, которой порой страдают любимцы судьбы. Она словно несла в себе тайное тепло, которым умела незаметно согреть каждого, кто оказывался рядом.
Из чавчавадзевского флигеля она день за днём переходила по выгнутому деревянному мостику через журчащий ручей – лёгкая, как тень, с тетрадками под мышкой или с корзиночкой для сбора яблок. И всякий раз, ступая в дом Ахвердовой, будто возвращалась в зачарованное детство. Всё здесь было ей знакомо и бесконечно дорого: витражи в коридоре, отбрасывающие на стены цветные блики; белые камины с ровным, мягким блеском кафеля; клетка с соловьём на балконе, что начинал петь, едва солнце касалось резного карниза.
В доме пахло – чем-то неизменно сладким и успокаивающим: спелыми яблоками, сушёной ванилью, и непременно – кофе с корицей, сваренным в турке так, как умела лишь Прасковья Николаевна. В большой гостиной – миниатюры в золочёных рамках, акварели, писанные самой хозяйкой, – с тонким вкусом и ловкой рукой. Меж окон, в узком простенке, тикали высокие часы с розами на эмалевом циферблате; и, пробив очередной час, они играли нежный, немного грустный менуэт Боккерини, словно откуда-то из другого, ускользающего века.
А в глубине гостиной стояло фортепиано – массивное, тёмное, с ножками в виде львиных лап, упирающееся в паркет, будто в землю. Оно было вторым по счёту инструментом такого рода во всём Тифлисе, и на его пюпитре всегда лежали нотные тетради – то рукой Грибоедова переписанные, то Прасковьей Николаевной оставленные.
Этот дом был не просто приютом. Он был очагом – редким, одухотворённым, где всё говорило о том, что в человеке ценится не положение, а просвещённый ум, не громкое имя, а тихая, теплая душа. И в таком доме росла Нина – дитя света и печали, предназначенная судьбой для тропы, где красота, страдание и благородство будут сплетены воедино.
Открытое фортепиано, словно ожившее, безмолвно манило. Его лакированный корпус мягко поблёскивал в утреннем свете, а клавиши – будто приоткрытые губы – ждали прикосновения. Нина не устояла: грациозным движением опустилась на край стула, и, не нажимая на клавиши, проворно скользнула по ним пальцами, как бы отпуская на волю капризных музыкальных духов, дразня и разогревая их.
Дом тем временем наполнялся живым шумом: топот детских ног пробегал этажом выше, чьи-то звонкие голоса сливались в радостный гам, где-то с глухим эхом хлопнули тяжёлые двери, и от лестничного пролёта донёсся знакомый визг – кто-то, видно, снова съехал по отполированным перилам.