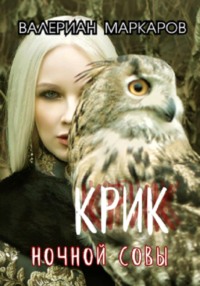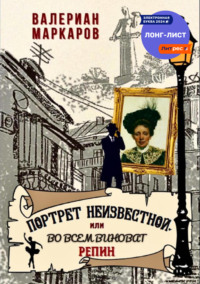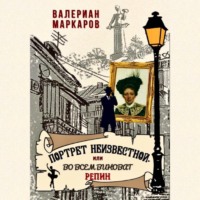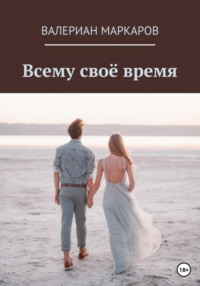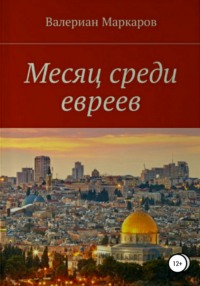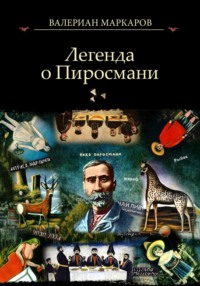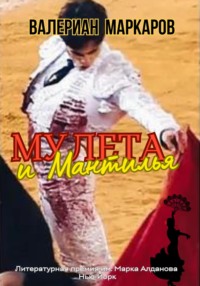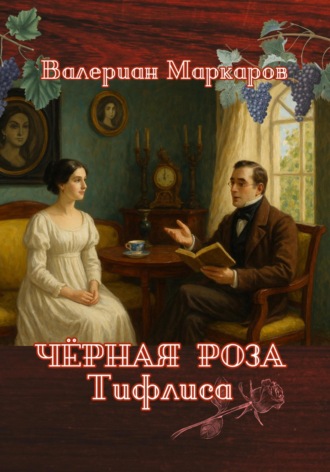
Полная версия
Черная роза Тифлиса
И вот он уже в Сололаках, у знакомого дома. Двери отворились без промедления. Грибоедов бросил швейцару цилиндр и перчатки и шагнул в просторную приёмную, обставленную с благородной простотой и вкусом. Здесь даже в знойный полдень сохранялась приятная прохлада: тяжёлые шёлковые портьеры смягчали солнечный свет, ковры глушили шаги, а на стенах, в резных багетах, висели литографии с видами Парижа и Дрездена.
Хозяин этого дома – обаятельный князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе – неизменно восхищал его своей натурой: в нём Грибоедов почитал не только друга, но и редкое явление эпохи. Раненный под Лейпцигом, адъютант Барклая-де-Толли, он вступил с победоносной армией в Париж и там удостоен был золотой сабли – «За храбрость». Тридцатидвухлетним полковником он вернулся в родную Грузию, где вскоре возглавил Нижегородский драгунский полк, квартировавшийся неподалёку от Цинандала, в Караагаче. А в недавнюю войну с Персией, показав себя блистательным военачальником, был произведён в генералы и назначен губернатором Армянской области.
Но более всего пленяла Грибоедова в нём глубина и широта ума, светлая мысль и любовь к знанию. Князь был страстным библиофилом: редкие тома, привезённые им из Парижа, бережно хранились в застеклённых шкафах. Он знал наизусть Саади и Гафиза, свободно владел немецким и персидским, перевёл на грузинский язык элегии Пушкина, «Федру» Расина, «Альзиру» Вольтера, и грезил мечтою – открыть русскому читателю «Витязя в тигровой шкуре». Стихи собственного сочинения он никому не показывал, но Грузия их пела – без ведома, кто был автор: князь не печатал под своим именем ни строчки.
В радушный дом Чавчавадзе людей тянуло как магнитом. Однажды зашедший сюда человек на годы прикипал душой, становился своим. А когда сиятельный князь бывал в Тифлисе, дня не проходило, чтобы за обеденным столом не сидели двадцать-тридцать «случайно забредших», всякого разбора. Лейб-гусары, чиновники, музыканты, жители гор, а также русских – ссыльных и нессыльных, которым к этому очагу тянуло потому, что возле него легко дышалось, было уютно, велись честные разговоры и высказывались независимые суждения…
– Ну как, Сандро, что там, в Петербурге?.. – тревожно спросил хозяин. Он называл его на грузинский манер «Сандро».
В Тифлисе только недавно стало известно о судьбе декабристов, и Чавчавадзе был очень огорчен.
– А я надеялся, любезный мой друг… Так трудно дышится…
За стёклами очков затуманились умные глаза.
– Я разделяю их мысли, идеи, но…
– Да! Ты всегда скептически относился к их затее…
– Пойми, друг мой Александр, сто человек прапорщиков не могут изменить весь государственный быт России… Народ не принимал участия в их деле, народ для них как будто и не существовал… А без народа такие дела не творятся…
– А сам-то как, Сандро? Всё в порядке? – тревожно спросил хозяин.
– Чудом, мой дорогой друг, чудом. И если бы не проконсул Кавказа…
– Ермолов?
– Он самый! Предупредил меня вовремя, рискуя собственной головой. А то и я хлебнул бы Сибири… Да ещё, надобно сказать, и кузина моя, Елизавета Алексеевна, изрядно подсуетилась; благодаря заступничеству её мужа, графа Паскевича – не повесили и не сослали на каторгу…
Он замолк. На губах его блуждала неясная улыбка, но глаза сверкали напряжённым огнём. Мысли его уносились в северную столицу, где, в заиндевелых парадных залах, звучали иные слова, иные клятвы. В памяти всплывали лица, события, разговоры… разговоры…
Глава 5
В Петербурге, в те метущиеся, нервные годы, когда мысли об устаревшем порядке грызли души молодых, несломленных, – Грибоедов сблизился с людьми, чьи имена нынче произносились шёпотом. Бестужев и Рылеев… Связь между ними была не только дружеской, но – исподволь – клятвенной, хоть и негласной. Все трое когда-то начинали с кавалерии, не снискав орденов, зато прослыв храбрыми дуэлянтами, и ещё – людьми слова. Их объединяла тяга к литературе, страсть к спору, а главное – непереносимая тоска по свободе. Свободе, которую в России топтали, как весеннюю траву, сапогами страха, указов и плетей.
Но в решительности, в готовности к действию, к жертве, он отставал от них. Они уже жили в какой-то неведомой ему глубине заговорщической уверенности. Он всё ещё был снаружи – сторонний свидетель, притянутый тяжестью мысли, но не втянутый в тайные узлы.
Они – и ещё несколько лиц, с разной степенью убеждённости и отваги: Одоевский, Каховский, князь Оболенский… Даже шалопай Лев Пушкин, младший брат Александра, появлялся порой на сходках, привозя вести об опальном поэте, об его деревенском уединении в Михайловском, где он, будто изгнанник из собственной судьбы, сочинял главы «Онегина».
А весной, как тень прошлого, в Петербург явился Кюхельбекер – без места, без надежды, но с тем же беспокойным огнём в зрачках. Всё это собрание, пёстрое и пылкое, собиралось у Рылеева на Васильевском, у Оболенского в казармах, но чаще – у Одоевского, чья квартира была просторна, и где сам воздух будто дрожал от обсуждений, предчувствий и печатных листовок.
Грибоедов вошёл в этот круг, как человек входит в реку, сначала по колено, а потом уже плывёт. Он слушал, смотрел, говорил – и, не замечая, стал своим. Он не был слепым последователем, но уже и не оставался равнодушным. Он чувствовал, как сама история подступает к ним, ещё не обнажив своего лезвия.
Иногда в словах Рылеева пробегал ток, от которого мурашки поднимались на коже. Как-то раз он услышал, как тот, склонившись к Бестужеву, произнёс с тихой яростью:
– Мы должны действовать. Медлить – значит предать. Я уезжаю на юг. Собирать голоса, сердца, штыки…
– Немедленно. В свои части. В армию. Узнавать настроение. Войско и народ… И – прокламации. Им нужны слова. Им нужны смыслы…
С этого дня в квартире Рылеева двери не закрывались. Там, в тихом доме с облупленной штукатуркой, родился тайный штаб восстания.
И всё же: открывать ли Грибоедову всю глубину замысла? Обсуждали. Спорили. Рылеев склонялся к откровенности – он верил в его ум, в его силу слова. Одоевский и Бестужев возражали. Опасались. Талант его был слишком ценен, чтобы пожертвовать им в случае провала. Он не имел солдат. Но он имел кое-что другое – нечто, что в определённый миг могло оказаться ценнее батальона.
Связи. Люди. Возможности. Столыпин-старший, тот самый, друг Сперанского, мог стать звеном между мыслью и властью. Мордвинов – человек редкой независимости и убеждений. Дмитрий Столыпин – генерал-просветитель. А там, кто знает, может, и сам Сперанский, этот каменный либерал, подал бы руку.
– Если бы Грибоедов смог склонить этих троих… – с надеждой говорил Рылеев. – С ним – дипломатия. С нами – армия.
Слово и сабля. Разум и решимость. Всё сходилось в одной точке, и эта точка – была Россия.
Время ходило кругами под окнами.
Пахло свинцом и типографской краской.
Ещё важнее всех прочих связей казалась им его дружба с Ермоловым – грозным кавказским идолом, косматым, непокорным, подчас резким до неистовства. В самом деле, кто, как не он, мог бы, подняв знамя восстания на дальних хребтах Кавказа, двинуться с отборным войском на Петербург, прокладывая путь не словом, но саблей? Заговорщики в нём видели фигуру почти мифическую – дикаря с манерами вольтерьянца, полководца с речами трибуна, дерзкого крикуна, не боявшегося грубить и министру иностранных дел, и самому государю-императору. Он бросал вызов не только персидским ханам, но и высочайшей канцелярии; он покровительствовал ссыльным, не терпел чинопочитания и слыл за человека решительного и одинокого.
Они шептались о нём при свечах, в тени штофных портьер, за закрытыми ставнями Одоевского, Рылеева или у Оболенского в казарме: «А если Ермолов – если он поднимется? Он ведь пойдёт! С юга! Прямо через Владикавказ на столицу!» Эти разговоры велись за спиной Грибоедова, но он их чувствовал кожей, чутко уловив тот едва ощутимый трепет, когда упоминают имя, слишком близкое к настоящему замыслу.
И вот наконец Рылеев, после долгих колебаний, решился заговорить откровенно.
– Послушай, Александр Сергеевич… – начал он, ступая к окну и отворачиваясь, словно стыдясь своей горячности. – Мы не можем больше ждать. Время уходит. Надо действовать.
Грибоедов молчал.
– Мы не просим тебя поднимать знамя, не просим шпаги… но, может быть, твоё слово, твои связи, твой ум… – Рылеев запнулся. – Нам нужно понять: пойдёт ли Ермолов? Или хотя бы – не станет ли мешать?
– Ермолов? – тихо переспросил Грибоедов. – Вы не знаете его. Он – лавина, да, но лавина, не тронутая с места. Всё, что вы видите – лишь его шум и тяжесть. Он слишком умён, чтобы жертвовать собою понапрасну. И слишком честолюбив, чтобы вторить чужим мечтам. Он не пойдёт. Разве что, если всё уже решится без него.
Рылеев сжал губы.
– А ежели мы всё же решим? Если замысел созреет?
– Тогда, быть может, и он решится. Но только на уже разгоревшемся костре. Не будет он поджигателем.
После этой беседы Грибоедов долго сидел в одиночестве. Письменный стол был завален бумагами, письмами, газетами – ничто не интересовало, всё раздражало. Он чувствовал странное облегчение. Эти люди, эти юные заговорщики, не имели ни военного плана, ни ясной программы. Они говорили о цареубийстве, о Временном правительстве, о Манифесте к русскому народу, как о предисловии к пьесе, чья основная часть ещё не написана.
Он вспоминал Муравьёва – бывшего соученика, вечно с ознобом в голосе, полным высоких понятий. Тот принялся было писать Конституцию, по-английски строгую, но едва женился – и остыл. Рылеев – горяч, но не ясен. Бестужев – умён, но не терпелив. Одоевский – романтик с пороховой душой. Кто же поведёт их?
Грибоедов чувствовал: он сам не способен идти с ними. У него не было солдат, не было конспиративных собраний, он не умел командовать, не хотел проливать кровь. Но и остановить их не мог. Как? Призвать к смирению? К терпению?
Что он скажет Бестужеву, Рылееву, Одоевскому? «Ждите, коли придут лучшие времена»? Но разве не сейчас они? Разве не в эту минуту тьма сгустилась до предела? Или взывать к милосердию перед жестоким законом, взывать, как Чацкий в своем гневном монологе, к тем, кто не слышит?
Нет. Эти слова были бы не только бессильны – они были бы подлы. Они сделали бы его предателем не их дела, но их веры. Он мог уйти в сторону, промолчать, исчезнуть. Но не уговаривать. Не поучать. Они были правы в своём отчаянии – даже если обречены.
И всё же, всё же…
Размышления Грибоедова прервал голос Одоевского, вошедшего без стука:
– Ты знаешь, что Рылеев сегодня сказал? Стихи прочёл вслух – те самые. Помнишь?
И Одоевский процитировал, тихо, словно молитву:
«Известно мне, погибель ждёт Того,
кто первый восстаёт
На утеснителей народа…»
– Он ведь знает, чем всё это кончится… – сказал он.
Грибоедов долго смотрел на него и ничего не ответил.
Задолго до роковых событий, за кружевом светских разговоров и тенью свечного света, друзья Грибоедова поведали ему о том, как Париж – ослепительный, расшатанный бурями революции и вновь приглаженный Бурбонами – встретил их, русских офицеров, с распростёртыми объятиями. Победители Наполеона, юные освободители Европы, они ступили на мостовые столицы мира, как герои греческой трагедии, несущие на себе отблеск славы и мрачную обречённость.
Французские прелестницы – из тех, что танцевали на балах при Директории и пережили Термидор – обольщённые, пленённые, вновь обрели надежду в лице русских. И те, весёлые, пылкие, с сабельной выправкой и разбойничьим блеском в глазах, не отказывались от восхищения, легко окунались в водоворот наслаждений: балы, винные подвалы, мадемуазель в полумраке будуаров, разговоры под музыку Лагарпа и Мейера, дуэли на рассвете в Булонском лесу.
Среди иных забав они, смеясь, наведались и к знаменитой мадемуазель Марии Ленорман – та, что слыла Чёрной Марией и снискала себе славу пророчествами, касавшимися Марата, Сен-Жюста и самого Робеспьера. В её парижском салоне – под сводами, пропитанными ладаном и лживым очарованием оккультного – гостей встречали и зеркала в золочёных рамах, и шар из горного хрусталя, и замысловатые ножи, и платки, и засушенные травы, и чаша с воском, будто бы плывущая между мирами.
Там однажды оказался и Сергей Муравьёв-Апостол – совсем ещё юноша, едва восемнадцатилетний, но уже обагрённый славой боёв и ран. Придя в салон, он с весёлым вызовом в голосе спросил гадалку:
– Ну что ж, мадам, поведайте-ка мне мою судьбу?
Ленорман, поглядев на него исподлобья, развела руками и устало молвила:
– Ничего.
– Хоть слово! Ради забавы! – настаивал Муравьёв.
Тогда она вздохнула и, словно с усилием, произнесла:
– Вас повесят…
Смех его мгновенно стих. Он вскинул голову, рассмеялся сквозь недоумение и ответил:
– Что вы, мадам! Я – дворянин! У нас в России не вешают дворян!
– А для вас, молодой человек, император сделает исключение, – пророчески и печально произнесла она.
История эта с шумом разнеслась по офицерской среде, обсуждалась в клубах, на вечеринках, в курилках и кавалерийских казармах. Но посмеивались больше, чем верили. Шутка, мол, недурна, да и прорицательница, вероятно, перегрелась на ладанах и свечах. А вскоре к ней пошёл Пестель – трезвый, уравновешенный, рассудительный. Вернулся он с весёлым лицом:
– Ну, сумасшедшая эта мадемуазель, боится русских, вот и болтает всякое. Представьте, предсказала мне верёвку и перекладину!
А вот Рылееву не повезло. Когда он протянул гадалке ладонь, та лишь взглянула – и со вздохом оттолкнула её:
– Я не скажу вам ничего!
– Почему? – спросил он, удивлённый.
– Не хочу.
– Я настаиваю! – сказал он, вставая. – Я требую!
Мадам Ленорман сдалась, вздохнула тяжело и выговорила, словно через силу:
– Вы умрёте не своей смертью…
– На войне? В дуэли? – уточнил поэт, всматриваясь в её потемневшие глаза.
– Хуже. Гораздо хуже, – отвечала она, отводя взгляд. – И не спрашивайте более. С меня довольно…
Смеялись, разумеется, и над этим. Кто всерьёз станет слушать колоду засаленных карт и старушку с причёской времён Тюильри? Сколько было предсказаний с младенчества, а вот – живы, полны сил, танцуют, пишут стихи, ведут диспуты и дуэли. Хотя иногда, в тишине ночи, когда сердце начинало стучать громче и у окна вилась французская гарь, – кто-то один, а может, каждый из них, вспоминал вдруг сказанное, и будто бы холодок проходил по коже.
Да, то было племя, которое не страшилось умирать. Но что страшнее: смерть – или пустая, ничем не наполненная жизнь?
А он, Грибоедов, шёл навстречу судьбе – не с упоением, как юноша, бросающийся в пламя славы, но с открытыми глазами и надеждой, ослабевшей, как иссякающий огонь в лампе. Ему оставалось одно – сделать выбор: стать плечом к плечу с друзьями или, отринув всё, что с ними связывало, уйти в одиночество, подобное монашескому. Но первое, что он сделал, – отказался от формального членства в тайном Обществе, без колебаний, с холодной решимостью. Он знал цену подчинению – ещё с тех лет, как сбросил ярмо матери, властной, деспотичной, не терпящей ни возражений, ни слабости. С тех пор он строил свою жизнь так, чтобы никогда, ни при каких условиях, не стать винтиком в чужом механизме.
Даже в армии он оставался почти вне контроля, подотчётный лишь по форме. Принадлежал – но не подчинялся. Генералу – только на бумаге. Нессельроде и Ермолову – постольку, поскольку позволяла совесть. Инструкции, присылаемые из столицы, он толковал свободно, как художник читает нотную партитуру: изменяя, пропуская, импровизируя. Иногда он вовсе шёл наперекор – сталкивал Турцию с Персией, словно холодный шахматист, выставляющий фигуры на поле, где за каждым движением – кровь. И вся ответственность за исход всегда ложилась на него одного.
Тем более он не собирался становиться пешкой у Рылеева или Оболенского. Он слишком хорошо знал цену человеческому воодушевлению – оно бывает ослепительно, но кратко. Впрочем, отказ подписать какую-либо бумагу был жестом скорее символическим: Рылеев, будучи предусмотрителен, тут же сжигал подобные списки – чтобы в час поражения не выдать ни одного имени.
И всё же – он не мог порвать с ними. Да и не хотел, как бы ни уверял себя в обратном. Эти связи – связи юности, мечты, общего дыхания и книг, – прорастали в нём, как корни в камне. Он пытался их рвать – они обвивали душу ещё крепче. Он упрекал себя, допрашивал, терзал:
– Ты всё ещё с ними?
И сам же себе отвечал:
– Я с ними не по привычке. По совести. Мы росли, как братья, на одних книгах, на одном воздухе. Мы верили в Отчизну не как в землю, а как в путь. Я не могу иначе…
Он был ровесник – и в то же время старик среди них. Не по летам, но по усталости, по трещинам на сердце. Они – пылкие, стремительные, живые. Он – трезвый, как судья. Они горели, вспыхивали, бросались в бой, словно пламя свечи, готовое спалить всё – и себя в том числе. А он будто бы знал: в России за всякой страстью следует цепь. Кандальная или золотая – но цепь.
И всё же они любили его. Именно за это – за ум, холодный среди жара сердец. За взгляд, в котором не было восторга, но было мужество.
Иногда, в редкие часы одиночества, он стоял у окна, глядя в серую даль, в сизые облака, за которыми не было просвета:
– Что это за судьба у нас? – говорил он себе полушёпотом. – Мы родились в громах Бородина, мы росли под марш Суворова, мы учились по книгам Франции… и теперь сидим в канцеляриях, как писцы на чужом пергаменте, переписывая никому не нужные слова…
Он прошёл всё: порох, кровь, сцену, вдохновение. Потом – маска дипломатии: церемонии, фанфары, слова, в которых терялась суть. Потом – «Горе от ума». И вместе с ним – борьба, слава, недоумение и запреты. Петербург, балы, театр, книги, дуэли – не шпаг, но взглядов. Он был в самом центре жизни. Но никогда не изменял искусству – оно было исповедью, оружием и утешением.
А они? Те самые друзья, стройные, как тополя, плечистые, с ясным пламенем в глазах – уже прошли всё: кровь, смерть, победу… и пустоту.
– Скажи мне, Александр Сергеевич, – воскликнул как-то один, – чему мы учились? Где парламент? Где закон? Где Отчизна, которая бы нас услышала?
– В книгах, – коротко ответил он.
– Но разве можно жить в книгах?
– Можно. Если всё остальное – тень.
Что могла дать им Россия? Аракчеевская, косная, тяжёлая, как чугун, закованная в свои же страхи? Ни свободы, ни права, ни даже чести. Только подчинение. Только казённое дыхание. Герой, ещё вчера спасавший Отечество, теперь пахал землю и отдавал честь фельдфебелю.
Они были рождены для поступка. А им досталось ожидание. Они были воспитаны на свершении – а им осталась служба.
Поколение, выросшее под гром пушек, внезапно осознало: жизнь прошла мимо, так и не начавшись. Россия, пробудившаяся под Бородином, вновь провалилась в сон – тёмный, тяжёлый, беззвучный.
– Скоро, – говорил один на собрании, – у нас не останется выбора. Мы не мятежники – мы солдаты, которым не дают сражаться. Мы не мечтатели – мы люди, которым запрещают дышать.
И правда: поколение героев, зажатое, не находя выхода, рвалось наружу. В действие. В историю.
А он – Грибоедов – слушал. Молчал. И если пытался удержать – то всё реже. Он понимал: в этот век не остановить того, кто заглянул в бездну и увидел не страх, а зов.
Глава 6
В середине января 1826 года, вскоре после того, как до Кавказа донёсся первый глухой отклик петербургского грома, – донёсся в виде обрывков новостей о декабрьском восстании, переданных через фельдъегерей, случайных офицеров и полунамёками из телеграфных строк, – в крепости Грозная был арестован Грибоедов.
День тот выдался зябкий, с хрустом замёрзшего ветра, который резал лица, свистал в амбразурах, будто предупреждал о чём-то неотвратимом. У стен крепости поникли флаги, часовые на постах укутались в шинели, сжимая ружья ледяными руками. В тягучем, пустынном сумраке зимнего вечера всё замерло, будто сама крепость дремала под пледом снеговых облаков. Лишь в казармах потрескивали печи да редкие голоса доносились из-за дверей.
И вдруг – шаги. Не разбойничьи, не горские – ровные, отмеренные. И голоса: русская речь, сдержанная, внятная. Не скрываются, не крадутся. У ворот их уже поджидали.
В наместнических покоях было жарко от печей и свечей, и пахло воском, бурдюком и картами. Генерал Ермолов сидел в своём кабинете, как во временной столице – посреди огромного Кавказа, вытянутого между горами и империями. Он был велик, грузен, и при всём этом – неукротим. На нём – распахнутый архалук, через грудь – вьются пепельные волоски, похожие на завитки тонкой стружки. Лицо большое, тяжёлое, как барельеф, но глаза – как две точки напряжённого веселья, из тех, что смеются раньше, чем рот.
На столе – ворох бумаг, ведомостей, карт. По стенам – Кавказ, растянутый на пергаменте: линии наступлений, пятна аулов, кривые хребтов, как раны. На одном из стульев валялась шпага. За спиной – лампа, отбрасывающая дрожащую тень на воротник.
– Кавказ, – сказал он вдруг, не поднимая головы, – это не край, это судьба. Это то место, где Россия видна до дна. Без Кавказа Россия как слепец без трости. Пётр Первый это понимал, Екатерина Вторая понимала, Ираклий грузинский понимал, а как дошло до Аракчеева, так крышка. Поэтому и держат меня здесь, на отдалении. Чтобы не путался. Чтобы не говорил. А я ведь скажу. Я всё скажу! Потому что, Александр Сергеевич, – он вдруг повернулся к стоявшему у окна Грибоедову, – я, как Кутузов, не царям служу. Я – России.
Он приподнялся, шумно вздохнул и пересел к ломберному столику. Взял карты. Карты были пёстрые, заморские, с золотым отливом. Пальцы у проконсула были широкие, в рыжеватой шерсти, и двигались медленно, точно над сабельной рукоятью. Пасьянс раскладывался как судьба – запутанно, тревожно.
– Эту – сюда. А эту… – он нахмурился, – червонную даму-то куда девать? Нет, опять напутал. Александр Сергеевич, а Александр Сергеевич?
Грибоедов стоял, прищурившись, с трубкой во рту. Он смотрел не на лицо Ермолова – на руки. Руки у наместника были тяжелые, как гири, и всё же в них была странная ловкость, как у бойца. Он смотрел – и думал, как эти пальцы могли подписывать приказы на выжженные аулы, и при этом с тем же движением, точно играючи, раскладывать пасьянс.
– Ну, вот и всё, – буркнул генерал. – Напутал, видно. А может, карты лгут?
В этот момент вошёл офицер адъютантской службы и, не осмелившись заговорить вслух, подал записку.
– От министра? – Ермолов уже не смотрел на карты. – Из Петербурга? Сейчас же пусть входит. Пусть идёт.
Он говорил медленно, тоном, в котором угадывалась и насмешка, и нетерпение, и равнодушие к любым вестям, кроме вестей о войне.
Пасьянс рассыпался. Листья карт рассыпались, будто пали осенние перья.
– Ну вот, – сказал он, – не складывается. И выглянул в окно, где зимняя мгла уже поглощала горы.
Тишина повисла над комнатой.
Всё шло своим чередом.
Только пасьянс, увы, не сошёлся.
Холод с улицы вполз в комнату вместе с фельдъегерем: тот входил в комнату, как входит человек, несущий не письмо, а волю. Его шаг был чеканным, лишённым человеческой нерешительности: так ступают не по полу, а по уставу. За три шага до генерала он резко остановился, поднял правую руку в коротком, отточенном приветствии, будто рубанул воздух. Потом так же отточенно – всё это было похоже не на движение, а на жест военного устройства, – расстегнул пряжку на чёрной фельдъегерской сумке и двумя пальцами, будто щипцами, извлёк плоский пергаментный конверт. Шагнул вперёд и протянул его Ермолову, не изменив выражения лица.
Ермолов молча принял пакет. Повернулся спиной к окну, поднял сургучные печати на просвет, быстро, чуть небрежно, как человек, привыкший к бумагам и к опасности, разорвал обёртку наискось и развернул письмо. Глаза его сразу налились вниманием, и стало ясно, что он читает не глазами, а головой. Широкий лоб его плотно сдвинулся, брови нависли. В наступившей тишине слышно было только, как потрескивает фитиль в свече.
Сзади стоял Грибоедов, вынув трубку изо рта. Он уже видел, что письмо – предписание. Его имя, написанное чужой рукой, вдруг ударило в глаза, как неожиданное зеркало. Он прищурился, чуть нагнулся, и текст проступил перед ним, строчка за строчкой, выпукло, будто вырезанный по линейке:
«По воле Государя Императора покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника Грибоедова… со всеми принадлежащими ему бумагами… употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их…»
Формулировка была суха, бесстрастна, как рассудок полкового дьяка. Но эти ровные строчки, выведенные с усердием и безучастностью, обрушились на Грибоедова не хуже выстрела.