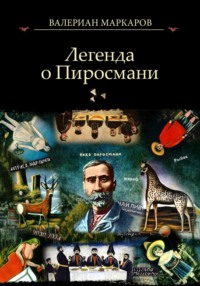Полная версия
Черная роза Тифлиса
Он не испугался – нет, страха не было. Но не было и удивления. Так ждут: ждали не столько повестки, сколько формы, в какой она явится. Всё оказалось просто и буднично. И всё же он представлял себе этот момент по-другому. Барабаны, тревога, резкий приказ, взмах сабли – а не вот это вот: воск, бумага, аккуратный почерк и слова, как из инструкции.
Он на миг застыл, как остуженный самовар: молчал, сжав губы, глядя на плечо генерала. Потом шагнул в сторону – к свету. В голове билось: бумаги, бумаги!
Тем временем Ермолов, дочитав, аккуратно сложил предписание вчетверо, вложил обратно в конверт, будто пряча не бумагу, а мысль, и положил его в карман. Затем, чуть откинув голову, расправил ворот мундира, выдохнул – не как человек, уставший, а как человек, решившийся.
– Ну, – сказал он, сухо и обыденно, – а доехали-то как? В дороге долго были?
Голос его звучал спокойно, может быть даже равнодушно, как если бы спрашивал про улов рыбака. Фельдъегерь начал докладывать. Его голос доносился будто из-за стеклянной перегородки. А Грибоедов вдруг увидел его ясно, до мелочи: плешь над лбом, узкое, нервное лицо, длинный нос, губы – вывернутые наружу, как у карпа, и белый шрам, под самым левым глазом. «Били его… за что же?» – мелькнуло.
– Нет, это недолго, – снова сказал Ермолов, поворачиваясь к фельдъегерю. – Две недели – это ещё по-божески. Ну, ладно. Коли не устали, расскажите нам, что там в Петербурге стряслось?
И вдруг стал медленно собирать карты со стола. Только теперь – уж слишком медленно. Сосредоточенно, как будто карты могли дать разгадку, как будто дама червей, случайно попавшая в середину, могла нарушить всю расстановку.
Грибоедов, не дожидаясь, отошёл к креслу, опустился, положил руки на подлокотники. Через секунду вскочил, как бы услышав зов изнутри. Мысль – резкая, как сквозняк:
«бумаги!»
Вот оно. Главное. Не арест. Не Петербург. Не суд. А бумаги. Те, что в ящике. Те, что – черновики писем, наброски, стихи… Он был глуп, непростительно глуп, что не подумал об этом раньше. Секунда – и уже поздно. Или ещё можно?..
Он посмотрел на окно. Потом – на дверь.
И тут ему показалось, будто все взгляды в комнате, даже равнодушный взгляд свечи, уже держат его на прицеле.
Он стоял, вытянувшись у стены, и усмехался. В усмешке его не было радости – то была маска, плохо скрывавшая напряжённое ожидание, непрошеную тревогу. И вдруг вновь долетел до него голос фельдъегеря, чёткий, сухой:
– Против императора восстали войска. Были рассеяны картечью. В Петербурге – сумятица, тревога. Аресты – повальные. Захвачено множество знатных лиц. В бунте оказались замешаны даже офицеры из гвардейских полков.
Он не выдержал. Глаза его блеснули за стёклами очков. Он сделал порывистый шаг к столу:
– А кто? Кто они, эти? Их имена!
Фельдъегерь ответствовал сдержанно, как человек, которому уже довелось много рассказывать в дороге:
– Много. Говорят, все казематы в Петропавловской крепости заняли. Князь Трубецкой сам повинился. А взяли Бестужева, с ним два брата. И ещё есть братья Муравьёвы, Раевские… Одоевский, Рылеев. Солдат – так прямо с площади. На Петровской площади у Сената мятежники строились: московцы, лейб-гренадёры, матросы гвардейского экипажа. Там и статские стреляли. Один, Каховский по фамилии – так он графа Милорадовича из пистолета убил, когда его превосходительство уговаривать московцев прискакали… Муравьева-Апостола, тяжело раненного, захватили на поле боя, его младший брат Ипполит, не желая сдаваться, покончил с собой. Пестель арестован. Якубович, ранее разжалованный приказом Его Императорского Величества в солдаты, ходил по площади от одной стороны к другой и предлагал свою помощь государю. После он тоже был схвачен, так как оказался изменником…
Слова эти разрывали душу. В сознании Грибоедова проносились обрывки образов, лиц, голосов. Он силился представить себе – не понаслышке, а вживую – как стояли они, его товарищи, на площади перед Сенатом, как вели полки на штыки, как молчали под пушечным залпом. Он знал их – каждого. Знал походку, интонацию, гнев, мягкость. Знал, чего ждали они, и знал – чего не хватило. Всё оказалось именно так, как он однажды предчувствовал. И всё же… всё же казалось: недостало самой малости, одного жеста, одного слова, – и история могла бы отвориться иным путём.
– А этот немец, из учителей, как его… Кюхельбекер, – продолжал фельдъегерь с тенью недоумения в голосе. – Так тот, с заряженным пистолетом, искал по городу Его Императорское Высочество великого князя Михаила Павловича.
– Вы слышали, господа? Кюхельбекер! – воскликнул вдруг Ермолов, на сей раз искренно, с удивлением и какой-то странной, едкой веселостью. – Наш Вильгельм Карлович… Да он же у меня в канцелярии лет пять назад служил. Помните?
Он начал поворачиваться на кресле в сторону Грибоедова, но вдруг будто спохватился, соскользнул с подлокотников и вскочил неожиданно легко. Под ним скрипнули и замерли пружины.
– Спасибо за рассказ, – сказал он, глядя прямо на курьера и любезно кивая. – Спасибо, голубчик. Очень хорошо всё рассказали. Вы, чай, устали с дороги, так я вас больше и не держу.
Он обернулся к адъютанту:
– Устрой его. Накорми, напои. Как следует, по-военному.
А затем, чуть приглушённо, как бы между прочим, сказал в сторону свиты:
– А вы, господа… к вечеру пожалуйте ко мне на обед.
Он пошёл из комнаты и, проходя мимо Грибоедова, не задерживаясь, показал глазами на дверь.
– Так вот, господа, милости прошу всех ко мне сегодня на обед, – повторил он с порога и вышел из комнаты.
Друг перед другом они стояли в маленькой, узкой комнате, такой маленькой и такой узкой, что в ней умещалась только одна жёсткая деревянная кровать да табурет из некрашенного дерева. Ермолов говорил:
– Ну, вот и допрыгались, сударь мой, и допрыгались. Сказано вот: «со всеми принадлежащими ему бумагами». Чего, хорошо разве? А ведь я знаю, какие у вас там бумаги.
Грибоедов молчал. Лицо его, сухое и неподвижное, уже не выражало тревоги. В очах – ни страха, ни вопроса. Что-то стойкое, обречённое, как будто опалённое огнём, жило в этом спокойствии. Он слегка улыбнулся, устало, почти с жалостью – то ли к Ермолову, то ли к себе:
– Двум смертям не бывать, Алексей Петрович, – проговорил он негромко, называя его так, как звал только наедине, без чинов и чиновничьей щепетильности.
– Ага, вот и славно, – встрепенулся Ермолов и сразу оживился. – Уже и о смерти заговорили, значит, дело идёт к серьёзному. Двум смертям! Ха!
Он подошёл к стене и резко развернулся, будто маршируя в тесноте. Лицо его перекосило от досады:
– Скажите на милость! Четверо поэтов – вы, Одоевский, Вильгельм Карлович, да ещё Рылеев – и бунт противу всей империи! Писаришки, вдохновенные ораторы! Да разве ж так делаются государственные дела? – Он с омерзением сплюнул. – Сочинители…
Снова прошёлся по комнате. Потолок скрипнул. Грибоедов не шелохнулся. Снял очки, протёр их суконкой, неторопливо вернул на нос. Затем полез в карман – достал трубку, повертел и убрал обратно.
– Двум смертям! – снова с досадой повторил Ермолов и выудил из кителя плотный конверт, заложенный сургучом. – Вон что пишут: взять с бумагами. Бу-ма-га-ми! Ведь вот оно что. Значит, ты слушай сюда: я тебе могу дать не более часа. А то и меньше. А потом – не обессудь: приду, как велено, со всей сворой. Так что собирайся, сударь. – Он задержал взгляд. – Слышишь?
– Слышу, Алексей Петрович, – тихо отозвался Грибоедов. Пальцы его снова коснулись трубки. – Всё слышу.
– Иди! – скомандовал отрывисто, как на плацу, Ермолов. – Торопись! Видишь, уже смеркается.
Грибоедов пошёл, и тут Ермолов окликнул его снова. Лицо его было сумрачным, но взгляд уже становился светлым и спокойным.
– Стой, слушай, – сказал он каким-то совершенно новым тоном, таким, какого Грибоедов никогда от него не слышал. – Ты иди там, почистись хорошенько, а о прочем не беспокойся. Здесь они, – он ткнул на дверь, – ничем у меня не поживятся. Не на такого напали! Я тебе, Александр Сергеевич, аттестат дам наипохвальнейший, а если кого сюда о тебе пришлют разведывать, так ты сам знаешь, всё через мои руки проходит. Так, что ли?
– Так, Алексей Петрович, – тихо ответил Грибоедов.
– Ну вот, голубчик. А голову-то не вешай, не вешай. Не надо голову-то вешать. Я, брат, сам при Павле в ссылках побывал. А вот видишь, – он слегка пожал плечами с генеральскими погонами. – Ничего ещё не видно! Они там, в Петербурге, от страха все с ума сошли. Ну и хватают всех без разбору. Не чаю, чтоб ты чего-нибудь особого наболтал или – того паче – наделал. А всё остальное чепуха! Как пристали, так и отстанут. На следствии-то не болтай и никому не верь. Никому! Они одно слово сказали, десять соврали. Ихнее дело такое. Ну, да ты и сам знаешь. Учёного учить… есть такая пословица.
В глазах его стояло чувство, горькое и человеческое. Он положил руку на плечо Грибоедову, сжал его с силой, как солдат боевого товарища.
– Ну, обнимемся, что ли, напоследок?
И, не дожидаясь, обеими руками взял его за голову, за виски – и по-русски, по-солдатски крепко поцеловал в губы, трижды. Потом резко ладонью оттолкнул его голову.
– Ну, иди, иди, – сказал он торопливо, с трудом переводя жёсткое дыхание. – Иди, делай, что велено. – И, не удержавшись, добавил: – Рес-пу-бли-ка-нец!
…У себя в комнате он долго простоял на одном месте. Мыслей было много, но они слишком быстро проносились в голове и не были отчётливыми.
Кто назвал? Что надо говорить? И не ошибка ли, что меня не было на Сенатской? Нет, нет – сто прапорщиков не могут повернуть колесо истории. Безвременные мечтания. Не о том я думаю, не о том…
– Сашка! – кликнул он своего казачка. – Тащи скорей чемоданы!
– Едем куда-нибудь, барин?
– Уйди отсюда, Сашка! Я сам…
К самому, значит, Николаю… Ну что же… Ничего не выйдет. Не выйдет, ваше императорское величество…
Он поспешно нагнулся к чемодану. Письма. Письма в первую очередь. Он держал их в руке – письма самых сейчас близких людей: Одоевского, Бестужева, Бегичева, Жандра, – взглянул на стол, на ровный язычок горящей свечи.
Усевшись на пол, он стал жечь бумаги. Сашка Грибов, похожий на лягушку, стоял рядом со своей удивительно глупой улыбкой. Дверь комнаты они не заперли. Кроме них, здесь квартировало еще пять или шесть человек из свиты, но он не боялся, что им помешают. Конечно, старик не отпустит от себя никого весь вечер. Грибоедов вытащил из чемодана большую синюю тетрадь, со всех сторон исписанную незнакомым ему почерком, – сборник стихотворений вольнолюбивых. Может быть, перечесть? Нет, нет, – разумеется, думать нечего: эти сжечь необходимо. Он слегка перелистал тетрадь и сунул в огонь.
Пламя охватило рукопись всю сразу, и она зашумела, как ветвь под ветром.
«И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал»,
вспомнил он неожиданно для самого себя.
– Что-с? – спросил Сашка Грибов с пола.
– Ничего, – недовольно ответил ему Грибоедов. – А чего это ты тут расселся? Смотри, вон пепел из печи на пол падает.
– Никак нет-с, – сказал Сашка, услужливо кланяясь носом, и принялся сгребать его с пола прямо ладонями.
Стоя над огнём, Грибоедов думал.
«…Рылеев, Кюхельбекер, Одоевский, Якубович, а кто ещё? Может быть, Пушкин? Странно, однако, что курьер не назвал его фамилии. А вот Кюхля-то, Кюхля-то… – Грибоедов усмехнулся. – И тут ведь остался верен себе. Как это рассказывали: выбежал на площадь во всем штатском, без шубы, в каком-то лапсердачке да ещё, кажется, в мягкой шляпе с загнутыми краями – это в декабре-то месяце! – и стрелял в великого князя. Или нет, не стрелял, только хотел стрелять, в дуло набился снег, так, что ли, он говорил? А вот Каховский, тот выстрелил в петербургского генерал-губернатора, когда тот подскакал к мятежникам, и убил его. Лошадь пронесла по Сенатской площади его мотающееся в седле тело. Что теперь сделают с ним и с Кюхлей? А с Рылеевым, с Сашей Одоевским?»
А с ним что?
Вот он сидит на полу с Сашкой Грибовым, жжёт бумаги и ждёт, когда за ним придут.
– Сашка, что ж ты смотришь, тетеря? – говорит он сердито и подбрасывает ногой пачку. – Кидай, кидай их в огонь!
Пламя охватывает всю кипу и бурно листает страницы.
Он стиснул голову. Голова у него слегка кружилась. Он чувствовал себя, как после стакана хорошего вина.
Сашка пугливо посмотрел на него.
– Ничего, ничего, Сашенька, – сказал Грибоедов, – ничего, милый. Твое дело нехитрое: знай, подкладывай. – Он выхватил из чемодана рукопись, просмотрел её, и рука его задержалась с секунду над пламенем. – В огонь, в огонь всё!
«Что не берёт железо, то берёт огонь», – так учили его в детстве. Пусть горит и эта тетрадь, недописанная трагедия о 1812 годе. Он встал с пола, отряхнулся всем телом и зашагал по комнате. Сашка на корточках сидел около печки и перемешивал пепел. Жёлтые отблески плясали по его лицу.
И внезапно он всхлипнул. Грибоедов обернулся к нему. Сашка плакал. Крупная слеза стыдливо и медленно ползла по его щеке.
Грибоедов подошёл и поверх стекол заглянул ему в лицо.
– Что это ты, Александр? – спросил он озадаченно. – Никак плакать изволил?
– Ничего-с, – грубым голосом ответил Сашка, отвернулся от Грибоедова и вдруг не выдержал: – Как же-с, Александр Сергеевич? Писали, писали, ночи при огне сидели, и всё вот куды! – он кивнул головой на пылающую печку.
Грибоедов сверху вниз посмотрел на его лицо.
– Ничего, Сашенька, – сказал он медленно, подыскивая слова. – Пусть горят. Вот видишь ли, Саша, есть такая птица. То есть, я говорю, в сказке есть такая птица…
Ему вдруг ужасно захотелось рассказать Сашке о Фениксе – чудесной птице, которая сжигает сама себя, чтоб потом опять молодой и сильной возродиться из пепла, но он сейчас же подумал, что, пожалуй, не подберёт подходящих слов, усмехнулся и ничего не сказал больше.
– А что нам эта птица? – молвил натуженно Сашка с пола. – Нам эта птица вовсе ни к чему-с даже. Грех вам, Александр Сергеевич, так со мной разговаривать. Ведь не маленький. Вот сколько с вами езжу… Маменька-то, маменька-то что скажут, – продолжал он, размазывая слёзы кулаками.
Грибоедов сморщился, как от зубной боли и, стараясь больше не слушать ничего, что говорит ему Сашка, и ни о чем не думать, сунул в печку всё, что осталось на полу, и пошёл в угол.
– А меня, Сашенька, арестуют, – сказал он оттуда, сняв очки и протирая их кружевным платком. – Повяжут и увезут, и крепость Грозная сменится на другую. Но в той не будет уютных посиделок с Ермоловым и праздной болтовни с солдатами. Некому будет читать «Горе…», разве что крысам…
– Мы это понимаем, Александр Сергеевич, – ответил Сашка и вдруг ожесточённо зачастил: – Вот вас остерегали хорошие господа не водиться с этим Кюхельбекером, вы не слушались, а вот теперь, ну что же, очень просто: и увезут и посадят. Вон про Питер небось какие страсти рассказывают: из пушек по людям палили. Ведь это что такое!
– Ты прибери, Сашенька, комнату, – сказал миролюбиво Грибоедов из угла. – Сейчас они… – он вынул часы и посмотрел на них, ему оставалось минут пять-десять, не больше, – сейчас они придут.
Грибоедов вздохнул, провёл рукой по волосам и поправил очки.
Ближе к полуночи в дверь постучали, сначала тихо, одним пальцем, а потом, секунду спустя, ещё раз, уже громко и требовательно.
– Войдите, – сказал громко и спокойно Грибоедов, не отходя от окна.
Вошел знакомый офицер с бумагой в руках, и позади него два солдата с примкнутыми штыками.
Грибоедов стоял не двигаясь и ждал, когда тот заговорит.
– Александр Сергеевич, воля государя императора, чтобы вас арестовать. Где ваши вещи и бумаги?
Он спокойно указал на чемоданы. В его присутствии их вскрыли и тщательно проверили содержимое. Он держался спокойно и даже, можно сказать, безучастно следил за тем, как они перебирали белье и платье, обнаружив в одном из них толстую рукописную тетрадь, на её твердой обложке красивым почерком было выведено: «Горе от ума».
Офицер перелистал страницы:
– Нет ли у вас каких-либо ещё других бумаг? – спросил он.
– Всё мое имущество заключается в этих перемётных чемоданах, – ответил ему Грибоедов.
Чемоданы упаковали вновь, перевязали веревками и скрепили печатями.
– Пожалуйста, следуйте за нами, – сухо скомандовал офицер, и все четверо вышли во двор.
Светила полная луна, оставляя фиолетовые тени на снегу. Снег поскрипывал под сапогами идущих. Грибоедова перевели в офицерский домик, стоявший рядом, и выставили часовых у дверей и окон. Наутро все офицеры собрались проводить его. Многие беспокоились. Главнокомандующий вместе с уведомлением о произведённом аресте отсылал на него в Петербург наиболее лестную характеристику, упоминая в ней, что «Грибоедов во время служения его в миссии нашей при персидском дворе и потом при мне как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет весьма хорошие качества». Сам же Грибоедов успокаивал всех и беспрестанно повторял: «Пожалуйста, не сокрушайтесь, я скоро с вами увижусь». А сослуживцы его пригрозили курьеру, что если он не довезёт Грибоедова в целости и сохранности, то пусть уже никогда ни с одним из них не встречается, ибо сие может быть ему вредно. Фельдъегерь сел рядом с арестантом, и тройка с конвоем казаков помчалась по Военно-Грузинской дороге на север. Пошли снега, снега до горизонта. При солнце стало непереносимо смотреть на их острый и крепкий до синевы переливчатый блеск. Ночами они угрюмо мерцали и нагоняли тоску. Мучил мороз. Даже в тихие, казалось, дни встречный ветерок леденил лоб, обжигал нос, щёки: от него ни увернуться, ни уйти в вороник – на мгновенье пропадёт и вновь пристанет упрямым сквознячком. Небо сизое. Ветви встречных деревьев не ветви, а прутья. В складках пледа на коленях – сухой крупичатый снег, на рукавицах – ломкой плесенью ледок. Смотреть холодно. И лучше не двигаться, а просто замереть.
Можно было думать – да не о чем. Ни о прошлом – оно зачёркнуто, как неверная строфа. Ни о будущем – его как будто вовсе не намечено. Арестант. Государственный преступник. Отныне он не движется, а везом. Он не живёт – а охраняется. Время его остановлено. Это только кажется, будто едешь: мохнатая нога пристяжной мелькает у глаз, бьёт в такт, расшвыривая белый прах, но всё тот же, всё тот же снег – бесконечный, неистребимый, вязкий, как вырезка из другой жизни. Обледеневшая вешка – одна и та же – валится и поднимается в том же сугробе. Ни дороги, ни простора. Полусон, полуявь, и в этом слиянии – не тоска даже, а тупая белая тишина, как заплата на глаз.
И всё же тревоги в нём не было. Он не дозволил себе дрожи. Арест – лишь знак: его имя названо. Кто-то из взятых заговорил? Или просто – связь с Рылеевым, с Бестужевыми, с Муравьёвым-Апостолом, с Трубецким, – она ведь была. Дружеская, умственная, поэта – к поэту, мечтателя – к человеку действия. Но он не сдастся. Ни испуга, ни мольбы. Бояться – значит баловать.
Его почти радовало это состояние обнажённой, лишённой всяких украшений ясности. Почти восторг. Почти свобода. Ни больше – ни меньше, как перелом. Он был не слабее других. Нет. Он мог принять это как рок, но не как обиду.
Вскоре он узнал – в день присяги нового государя случилось невообразимое. Вышли на Сенатскую площадь лейб-гвардейцы Московского полка, флотский экипаж, гренадеры. Братья Бестужевы – каждый при деле. Один – в Адмиралтействе. Второй – в Сенате. Третий – в Академии художеств. Четвёртый – на корабле, откуда отстреливался из пушек… Каре восставших расстреляли. Путь отрезан: за спиной – Исаакий, впереди – лёд Невы, по которому грохотали пушечные ядра. Солдаты тонули – под уставным криком, с мушкетом в руках. Ни вперёд, ни назад…
Одоевский – сдался на второй день. Кюхельбекер бежал – но пойман у самой границы. Рылеев, Каховский, Трубецкой, Якушкин – все арестованы. Все ждут своей участи. Крепость молчит, как гроб, где ещё теплится дыхание. Император изрёк: виновен не только участник, но и молчаливый. Не донёс – значит замышлял. Знал – значит соучастник. Молчание стало изменой. Дружба – уликой.
И тогда в нём впервые шевельнулась мысль: кто именно? Кто назвал? Кто вспомнил его имя и не сумел удержать язык? Или – нарочно?
Но и эта мысль не прижилась. Он вытолкал её. В такие минуты предательство – мелкая монета. Истинная цена – судьба. Всё остальное – пыль на сапогах офицера, шагнувшего в комнату с бумагой в руке.
11 февраля. Грибоедов, ещё не остывший от долгого пути, был доставлен в Петербург, в Главный штаб, под вьюжное небо, к высям шпилей, что сливались в чернильной мгле с вихрями февральского снега. На гауптвахте не задержали. Сразу – к Левашову. Так было заведено. В тот же день, не дав отдышаться, не дав опомниться. На первый допрос – с глазу на глаз. Петербуржцы – в день ареста. Остальные – по прибытии. Расчёт прост: застать врасплох, расколоть прежде, чем соберёт лицо, прежде, чем нащупает – сколько ведомо, что раскрыто, на что надеяться и чего ждать.
Комната – зловеще-парадная, как сцена театра до начала действия. Лампочки с живым пламенем в тяжёлых подсвечниках на ломберном столе метались, колеблясь от сквозняка, и тревожно отражались в лакированных завитках розовой мебели. Спинки стульев – как будто не дышали. Завитки ножек – истончённые, точно ослабленные. Всё было тонко, вычурно, фальшиво. Белые двустворчатые двери с бронзовыми ручками, высокие окна, за которыми стояла вьюга, и будто кто-то, невидимый, подслушивал за портьерами. Чужое молчание углов. Часы – под стеклом, на малахите – с двумя амурами. Лазурь циферблата дрожала в тусклом свечении. Они били – не просто время, они выговаривали.
Одиннадцать.
Они сидели вдвоём. Генерал-адъютант Левашов – холодный, ровный, с лицом, не предающим ни жалости, ни гнева. И он, Грибоедов, – в звании коллежского асессора, дипломат и поэт, вельможа без портфеля, человек с слишком ясным умом, чтобы не чувствовать иронию этой сцены.
Он был почти спокоен. Лицо его – собранное, глаза открыты. Вид – откровенности и невинности. Ни тени беспокойства, но и без вызова. Он уже решил для себя: не отрицать того, что и без него известно, и прятать то, что доказать нельзя.
Голос его – твёрдый, ясный, лишённый патетики, словно бы он читает давно выученный урок:
– Я, – говорил он, – не принадлежал никакому тайному обществу, ни о его существовании не подозревал. В Петербург прибыл в двадцать пятом, из Персии. С Рылеевым, Бестужевым, Оболенским познакомился через литературу. С Одоевским жил вместе. С Кюхельбекером – связан по Кавказу. От всех этих лиц не слышал ничего, что могло бы дать мне мысль о заговоре. Суждения их – да, были смелы, о правительстве говорили с обличением. Я сам не молчал. Осуждал – что считал вредным. Желал лучшего. Но никаких иных действий за мною не значится. Почему подозрение пало на меня – понять не могу.
Он выговорил всё без запинки. Подписал – твёрдо, без дрожи. Строчка легла ровно.
За окном метель усилилась. Часы – медленно, с ледяной капелью, отбивали глухое, тягучее время. Два бронзовых амура продолжали держать стеклянный колпак над невозмутимым лазурным циферблатом. Всё вокруг казалось притворным: и уют, и свет, и мебель, и тишина – как будто под этой гладью копошился допрос другого рода, не официальный, а внутренний, между прошлым и будущим, между убеждением и холодной лживостью официального мира.
И Грибоедов чувствовал: не допрос страшен – страшно, что ты уже не принадлежишь себе.
15 февраля, видя, что его не вызывают для допросов, но и не отпускают, он сочинил резкое письмо Николаю I, написав его самым чётким почерком, дабы ни одно слово не пропало:
«Всемилостивейший государь!
По неосновательному подозрению, силою величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника моего любимого, из крепости Грозной на Сундже, чрез три тысячи верст в самую суровую стужу притащен сюда на перекладных, здесь посажен под крепкий караул, потом позван к генералу Левашову. Он обошелся со мною вежливо, я с ним совершенно откровенно, от него отправлен с обещанием скорого освобождения. Между тем дни проходят, а я заперт. Государь! Я не знаю за собою никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда я тщательно скрывал мое имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг до моей матери, которая могла бы от того ума лишиться. Но ежели продлится мое заточение, то конечно и от неё не укроется. Ваше императорское величество сами питаете благоговейнейшее чувство к вашей августейшей родительнице…
Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться я моим поведением никогда не заслуживал, или послать меня пред Тайным Комитетом лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете.