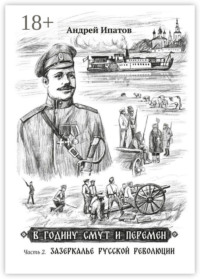Полная версия
В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность
Блок Хохла был уже рядом, запустив даму к ним в туалет, Александр поискал на карнизе комнатной двери его трешки ключ. Тарасик как раз на днях жаловался, что один из его соседей потерял ключ от комнаты, поэтому ему пришлось свой оставить в укромном месте, так как еще и третий сосед уехал домой в Башкирию на весь НГ – в общем, у них там теперь такая договоренность. Ключ Шусараша легко нащупал, значит, сейчас в этой трешке вообще никого нет. Зажег свет, отыскал на столе карандаш и лист мятой бумаги – нужно было написать пояснительную записку. Немного подумав, написал ее от первого лица: «Я не посторонняя, а родственница Тараса. Не трогать меня и не будить!»
Удовлетворившись своим опусом, он быстро распахнул постель на кровати Хохла и после того, как дама зашла в комнату, велел ей лечь именно на эту койку. «Это твоя? Какая-то продавленная! Только я одна не лягу, мне нужна твоя крепкая мужская грудь. И кое-что еще!» – «Ладно, ты пока располагайся, а я сбегаю кое за чем и сразу же обратно!» – «Это ты, что ли, за презервативом? Правильно! СПИД везде! Надо с ним бороться! Только ты недолго, а то я тут еще усну…»
Выскочив как ошпаренный из этого «заминированного» блока, Александр, прыгая через три ступеньки по лестнице, перенесся на свой этаж, в свою конуру. Там уже спали оба его соседа глубоким сном. Закрыв на замок двери (и входную в блок, и собственную дверь от их комнаты), парень наконец немного успокоился. Фу ты, черт! Заимел на свою задницу приключение на ровном месте! Дай бог она там сейчас уснет до утра, а потом либо сама уйдет, либо соседи Хохла утром ее выпрут4.
Так как в эту ночь у Александра никак не получалось больше заснуть, он засел за конспекты и учебник. Следующий день тоже был крайне продуктивен по подготовке к экзамену, соседей не было, и никто, к счастью, не отвлекал. В положенный час Шусараша даже явился на консультацию в институт. Преподавательница, моложавая, но строгая женщина, очень удивилась, что один человек из группы все же явился к ней в это постпраздничное второе января проконсультироваться по предмету. Они поговорили по ряду вопросов ее предмета, и она быстро определила, какие темы парню еще надо подтянуть. Расстались довольные друг другом.
На следующий день многие ребята из его группы пропустили свой первый вузовский экзамен. Причину этой расхлябанности можно было понять. Александр же, только войдя в аудиторию и взяв наугад билет, был остановлен преподавательницей: «А, это как раз те самые вопросы, которые мы с вами вчера разобрали на консультации. Зачем же мне их снова слушать. Давайте зачетку!» Так в его зачетке, где пока были записи только по нескольким зачетам, появилась первая каллиграфическая синяя запись «отл.». Удивительно, но эта запись магическим образом повлияла на все последующие оценки за сессию. Другие преподаватели, видя, что в зачетке идут одна за другой пятерки, несколько поколебавшись, тоже вписывали туда свой «отл.». В итоге полученный на химии «оберег» невольно стал началом получения Александром практически одних отличных оценок на всех зимних экзаменационных сессиях и, соответственно, основанием для повышенной стипендии в весенних семестрах (вместо 55 целых 68 рублей!).
Летняя же сессия для него проходила совсем иначе: появляясь в институте после затяжных байдарочных майских походов и спортивных выездных соревнований за вуз, вчерашний отличник уже отставал ото всех сокурсников по сдаче зачетов и курсовых работ. А пока догонял, начинал заваливать и сами экзамены. Весь июнь у Шусараши проходил в нервном цейтноте: что-то пропущенное сдавал, что-то проваленное пересдавал, а тут еще и новые соревнования какие-нибудь некстати образовывались.
Типичная фраза тамошнего преподавателя: «Саша, милый мой, как же так? Я же помню, вы так хорошо учились в прошлом семестре. Что теперь с вами произошло? Вот перед вами отвечал студент, он очень слабый, однако он ходил ко мне на все лекции и семинары, задавал вопросы. Ему просто плохо дается сама учеба в плане ограниченных умственных способностей, но никак не лени, как у вас. Поэтому я все же поставил ему за экзамен „удовлетворительно“, а вам сейчас ставлю „неуд“, потому что хоть вы и заработали твердую тройку, но это будет для вас вдвойне унизительно, если я ее поставлю в ведомость. Короче, неявка, и жду вас через неделю, но подготовленным на твердые пять!»
* * *Следующий НГ (на втором курсе учебы) запомнился двумя моментами. Во-первых, и это главное, тем, что это уже была общая общага с девочками. Они как раз недавно въехали в корпуса достроенного студенческого городка и после определенных переселений расположились вместе с мальчиками на общем же этаже! Этот финт ректора с совместным заселением так никто и не понял. До того момента даже попасть парням в гости в женское общежитие считалось большой удачей. А тут взяли и женские-мужские блоки перемешали через раз…
Отношения между соседями разного пола в тот момент были еще непривычными и деликатными. Но некоторые девицы уже положили глаз на парней и начинали их приручать, например, подкармливая (кухня на этаже общая), а также стараясь максимально заполнить свободное время опекаемых хлопцев. Скоро эти отношения станут куда теснее и сексуальнее. Собственно, именно на этом НГ в их группе и было зафиксировано первое «спальное» уединение – Сашкиного приятеля из соседней двушки попросили переночевать где-нибудь… потому что его соседу-иностранцу «очень нужна была эта комната».
Во-вторых, этот предновогодний период, кажется, должен был запомниться всем жителям европейской части страны, включая и москвичей. Весь декабрь был достаточно морозным, но на конец месяца пришлись особенно злые морозы. В канун НГ пришел наиболее экстремальный холод. 30 декабря в Ленинграде была температура -34оС, в Москве -37оС, а в Подмосковье понижение температуры местами доходило до -45оС. Еще суровее было на Урале и в Коми АССР – до -50оС, и даже фиксировалось -58оС.
Синоптики утверждали, что такие капризы природы случаются не чаще чем раз в сто лет. К счастью, сразу после 1 января те морозы пошли на спад.
* * *Наконец, третий НГ Шусараше пришлось бегать между общагой и родительской квартирой (благо, что она оказалась недалече). Там у отца с матерью одновременно был и сам Новый год, и праздничное новоселье, а еще одновременно простава отца по случаю присвоения ему очередного звания.
Что любопытно, ни он сам, будучи начальником штаба отряда, ни командир военной части в Звенигороде по своим должностям никак не могли претендовать на полковничьи погоны, так как часть их по численности не дотягивала до полноценного полка. Но стоило родителю еще только на бумаге перевестись преподавателем в столичную академию, где уже не надо было лично отвечать за полтысячи подчиненных, – и вот пожалуйста, очередное повышение в звании! А начальники факультетов и некоторых кафедр вообще там носили генеральские звезды.
У Шусараши своей пассии в общаге не было, что на самом деле его мало беспокоило. Были две сокурсницы-татарки, которые за него между собой конкурировали, но они ему обе категорически не нравились, поэтому парень использовал тот факт, что каждая максимально отваживала свою соперницу. Помните, фраза актера Кирилла Лаврова в известном телефильме «Стакан воды»: «Если на маленькое государство претендует два крупных, то у маленького государства появляется шанс сохранить свою независимость…»
Говорят, что студенческие годы – самые лучшие в жизни человека. Шусараша с этим тезисом всегда был солидарен на все сто процентов, хотя, как поется в известной песне: «Времена не выбирают, в них живут и умирают…» Жаль только, что с возрастом у человека скорость жизни как бы ускоряется. Самая медленная жизнь, несомненно, в детстве, потом ее темп начинает повышаться в юности, ну а в зрелые годы скорость жизни как у ракеты, только парсеки мелькают… Поэтому, видимо, в конце жизни и вспоминаются нам чаще те далекие первые годы пробуждения, где было много событий в первый раз, где были живы родители и бабушки, которых мы не желали слушать, и где делались глупые обидные ошибки, которые мы тогда считали нашим принципом.
Александр свои годы учебы в вузе запомнил наподобие слоеного пирога, в котором чередовались его спортивные соревнования, ночные бдения перед экзаменами, вольная до безрассудства жизнь в общаге и на студенческих выездных практиках, треп на перекурах между парами в туалетах и на лестницах, любовные похождения и многоугольники первых отношений с женским полом, проснувшаяся вдруг однажды тяга к наукам и к будущей профессии. Параллельно же были еще и игры в строителей коммунизма, а еще то, чего якобы в СССР не было: секс, фарцовщики, проститутки, наркоманы и самиздат.
Философский вопрос про Малую землю
Казалось бы, каким боком мемуары ветерана о прошедшей войне пересекаются с фундаментальной наукой философией? Оказывается, в СССР это однозначно обозначало знак равенства, если только мемуары подписываются от имени генерального секретаря партии. В таком контексте несомненно: Брежнев = философия эпохи. В начале 1978-го такие мемуары народу были анонсированы властью. Вот только увесистый объем первого такого судьбоносного произведения «Малая земля» (потом еще в том же году выйдут воспоминания о целине и возрождении Молдавии) не позволял издать его сразу же многомиллионным тиражом в газете «Правда». Поэтому первая публикация появилась в журнале «Новый мир», а уже дальше брежневские воспоминания стали издаваться многомиллионными тиражами в виде отдельных книжек.
Всем, конечно, было понятно, что сам Леонид Ильич эти книжки не писал, ему некогда, но возможно, что хотя бы с его слов… Популярные и злые анекдоты на эту тему: «Брежнев спрашивает своего зама Суслова: «Ты мою «Малую землю» читал? Понравилось? Гениально, говоришь? Самому, что ли, почитать…«», или «Ветерана спрашивают в военкомате: «Где вы были в годы войны? Сражались на Малой земле или отсиживались в окопах Сталинграда?»»
Сами книжки были неплохие, достаточно талантливо кем-то написаны, потраченное на их читку время не было бездарно пропавшим. Заодно появился повод стареющему лидеру коммунизма вручить очередную медальку – Ленинскую премию по литературе. В стране на одного великого литератора стало больше. Но речь не о том, а именно о философии.
Когда в феврале в институте на первом семинаре по предмету «философия» преподаватель объявила, что к следующему занятию всем надо в обязательном порядке прочитать «Малую землю», студенты только пожали плечами: «Да где ж ее взять?» До библиотек книжки еще не дошли. Их сначала было издано крайне мало, и потому книжечки раздавались пока проверенным кадрам в крупных парторганизациях. А журнал «Новый мир» был по определению дефицитным.
Разумеется, что к следующему занятию никто это задание физически не смог выполнить. Вот только спросили первого Шусарашку, а он явно не проникся и вместо того, чтобы сказать (как потом все это делали) «искал, но не достал, буду искать дальше…», ответил наивным образом вопросом самой же философичке: «А при чем тут вообще «Малая земля», когда мы изучаем предмет «философия»?»
Надо было видеть округлившиеся глаза женщины и затем слышать гневные тирады преподавательницы. Сашке тут же досталось за «глумление над линией партии», причем не только от преподавательницы, но и тут же от комсомольского секретаря группы Толяна. Бывший сержант имел два лица. С одним лицом он был вполне свойским рубахой-парнем, в другом же изображал из себя эдакого Павку Корчагина. Однако потом в перестроечные годы это лицо не помешало ему создать закупочный кооператив, на котором удалось неплохо материально подняться и благодаря которому вся его семья в 90-е смогла перебраться на ПМЖ из Урюпинска на Кипр. В результате Шусараша много чего о себе узнал. Но как вывод, уходя от разной словесной шелухи, было то, что философичка заявила: «Теперь я тебя особо буду спрашивать на экзамене…»
Это были уже не ритуальные слова при «пляске с бубном», а прямая угроза: поставить в угол и прищемить хвост. Обычно отчисляли после сессии за три хвоста, но один хвост по ленинизму к ним тоже приравнивался…
Поразмыслив над своей непростительной глупостью и сложившейся ситуацией, пообещав товарищам на будущее укоротить свой язык, Шусараша решил, что к будущему сражению надо теперь капитально готовиться. Се ля ви!
В экзаменационных билетах напрямую или косвенно была заложена добрая сотня первоисточников (работы Ленина, Маркса-Энгельса и ряд других, не считая все решения последних съездов и пленумов КПСС). Чтобы их все прочитать, законспектировать и, что называется, въехать в размазанную лозунгами суть, требовалось корпеть весь семестр, забросив остальные предметы. Да и то не было никаких гарантий, что он правильно на экзамене объяснит ту или иную мысль классиков марксизма-ленинизма5.
Периодически на занятиях, даже после его уверенных ответов, преподавательница напоминала всем, что она хорошо помнит про выставленную черную метку. Какие-то конспекты по нужным первоисточникам обнаружились дома у отца (у него даже сверх нужного со времен учебы в академии остались тезисы работ Сталина, к счастью, которых было немного), а еще у старшего брата – ну это как донашивать за старшими их одежду и обувь. В другой ситуации всего этого бы с лихвой хватило на получения пятерки, но не в новой данности ожидаемой репрессии.
Наконец, провентилировав ситуацию с разными приятелями и приятелями приятелей, Шусараша вышел на некого маклера, который взялся за четвертак достать шпоры по всем первоисточникам, да еще и с краткими резюме, что там к чему. Слава богу, какой-то трудяга-доцент из МГУ до него всю эту неподъемную работу выполнил, записал каллиграфическим почерком на мелких листочках, с которых проворные люди (видимо, будущая элита российского бизнеса) сняли где-то на закрытом предприятии (по блату или за магарыч) копии-синьки.
Конечно, полагать, что удастся пользоваться шпорами на экзамене, Сане и в голову не приходило. Кроме того, он ожидал, что помимо билета его начнут дополнительно устно гонять по всем темам и разделам (так в итоге и было, перекрестный допрос философички и комсорга Толи продолжался более часа). Никогда еще в своей жизни Шусараша одномоментно не запоминал наизусть такую массу гуманитарной информации (причем, по сути, абсолютно бесполезной в его будущей профессии). Три дня усиленной подготовки, тренинги с братом, ведро кофе и, к счастью, хорошая прогулка и крепкий сон перед экзекуцией дали благоприятный эффект.
Философичка к тому же допустила одну грубую ошибку – она, будучи уверенной в своей абсолютной победе на предстоящей «дуэли», запланировала прилюдную порку перед всей группой. В итоге именно большое количество студентов-свидетелей не позволило ей поставить не только «неуд», но и даже «удовлетворительно». Пятерку она тем не менее не поставила, хотя никаких оснований снижать оценку испытуемого за 100% правильные часовые ответы у нее объективно не было. Когда народ (группа), с великим интересом наблюдавший за противоборством студента-изгоя и подловатого преподавателя, загудел при объявлении всего лишь «хорошей» оценки, женщина вывернулась тем, что «оценка общая, не только за экзамен, но и за работу на семинарах…» Однако все было шито белыми нитками, и она сама это прекрасно понимала. Понимала, что всухую проиграла в той интеллектуальной дуэли, но, видимо, какая-то более глубокая мотивация, чем ее совесть, несмотря на очевидный позор остаться в памяти студентов беспринципной стервой, у нее все же была.
Выйдя из кабинета и махая зачеткой как флагом, Шусараша отказался от предложений пойти обмыть это дело пивом: «Ни в коем случае! Надо быстрее вытряхнуть весь этот мусор из ближней памяти мозга! Бегу сейчас в спортзал, институтский физрук обещал по такому делу дать спарринг по боксу! А уж он-то знает в этом деле толк, бывший чемпион Союза в среднем весе».
Диссидентская рябь в море развитого социализма
– Шусараша, ты на «войну» идешь?
– А что, по мне не видно? – Александр ткнул пальцем в свое одеяние камуфляжного типа. На военной кафедре требовали, чтобы на их занятия в институте по военной подготовке студенты приходили коротко постриженные, в отутюженной одежде, максимально напоминающей солдатскую форму, с обхватывающим резинкой шею узким офицерским галстуком-«селедкой», и чтобы отзывались на слово «курсант», а учебную группу именовали «взвод».
В качестве как бы военной формы всем студентам мужеского пола пришлось купить стройотрядовские куртки. Женский же пол был освобожден от военной подготовки, и поэтому целый день в неделю дамы имели законный дополнительный выходной, за который отсыпались за всю прошедшую бойкую неделю.
Стройотрядовская куртка в обиходе именовалась «бойцовка» или «целинка», но сами студенты звали их «поносками» за новый цвет, в который эти куртки после небольшой носки на солнце и стирки трансформировались из исходного. Собственно, что удавалось в промторге купить, в том студенты и ходили на военную подготовку. Редкие щеголи имели возможность достать импортные изделия цвета хаки, с которых предварительно аккуратно спарывалась символика United States Army. Специальной одежды студентам тогда централизованно еще не выдавали, тем более еще никому из начальства не пришло в голову увлекаться нашивками и погончиками.
Вопрос к Александру исходил от Валерки, студента-одногруппника, уже отслужившего до поступления в институт двухгодичную срочную службу в армии, получившего лычки сержанта и потому теперь назначенного курирующим их группу офицером командиром как бы «взвода». В их взводе было человек семь старослужащих, которым на период учебы в вузе почему-то не дали никакого послабления и принудили так же, как и «школьников», проходить подготовку по военно-тыловой инженерной специальности с присвоением после выезда «в лагеря» (это в конце четвертого курса) офицерского звания «лейтенант запаса по ГСМ» (горюче-смазочным материалам). За свою должность (на которую наотрез отказывались идти другие дембели) Валерка получил одну важную для него привилегию – ему разрешили сохранить на время обучения не только пышные усы, но и вполне выраженные на угрюмом лице бакенбарды. Вообще, офицеры военной кафедры в «керосинке», за исключением только одного «прикидочного» майора, были людьми вполне вменяемыми и не практиковали никаких перегибов в учебе и дисциплине.
Большинство из них являлось отставниками в зрелых званиях полковников и подполковников, носили кители с черными петлицами военных инженеров, а потому были, по сути, такие же технари, как и привычные на прочих кафедрах гражданские доценты и профессора. Исключением являлись несколько молодых строевых офицеров с красными петлицами (капитаны и майоры), неизвестно какими путями из своих гарнизонов попавшие на «блатную» службу в московский вуз. От них по определению требовалось дрючить (в переводе на официальный язык – воспитывать) курсантов (особенно бывших школяров), и в какой-то степени они соответствовали этой своей матюгальной функции.
– Санек, я задерживаюсь минут на пятнадцать, не более. На построение уже не попадаю, но капитан относительно меня должен быть в курсе. Передай всем нашим, что сейчас прямо на военной кафедре будет проведено экстренное собрание и что на нем в наших интересах лучше молчать в тряпочку… Только негромко так объяви от моего имени. Каждому на ушко. Ладно?
– Ладно, товарищ командир. Предвижу, как весь взвод будет заинтригован. Что за собрание-то? Вместо строевой или тактики опять предложат какую-то тяжесть потаскать на восьмой этаж? Так это мы с превеликой радостью! На дополнительной физкультуре, в отличие от учебных занятий, время быстро летит и с пользой для оздоровления организма.
– Потом поймешь! Знаю только, что это будет встреча с представителями из конторы!
– Какой еще конторы?
– Той, что на три буквы. Глубокого бурения…
* * *Честно выполнив поручение своего командира и прошептав каждому типу в поноске то самое секретное пожелание, после построения в коридоре военной кафедры Шусараша вместе с другими парнями вместо назначенной по расписанию лекции действительно были приглашены «поговорить» в одну из аудиторий с двумя серьезными моложавыми мужчинами в штатском.
Помимо гостей, в «президиуме» сидели и два своих офицера (подполковник – начальник кафедры и полковник, ее парторг).
В Сашкином взводе были ребята исключительно из двух учебных групп смежных специальностей, но обе эти группы в вузе относились к одной учебной кафедре, профилирующей в разработке нефтегазовых месторождений. Поэтому собравшиеся все друг друга прекрасно знали и по занятиям, и по практикам, а многие и по тесному сожительству в стенах общежития, многократному общению в междусобойчиках.
Александр при новой московской прописке умудрился в тот год сохранить место в общаге. На первых двух курсах это было вполне законно, так как отец служил в военной части Московской области, где вся семья, естественно, и была прописана. Однако к середине третьего курса его перевели на преподавательскую работу в военную академию, и, соответственно, прописка у всей семьи тоже стала московской. Однако паспорт и студенческий билет живут разной жизнью и между собой могут долго особо не пересекаться. Другое дело приписка к военкоматам – тут-то все и всплывает на поверхность…
Девушек у них на специальности было кратно меньше, чем ребят, – все-таки профессия предусматривала работу на промыслах, а это априори накладывало определенные бытовые ограничения. Ну, конечно, те дочки и сынки, у кого папы были большими начальниками (неважно, в Москве или в провинциях), могли однозначно рассчитывать на офисную работу в конторах или даже в отраслевых НИИ. Неожиданно темой разговора с КГБ стали именно их две девушки…
– Ваши сокурсницы (назовем их здесь А и Б) – что за люди? Кто с ними наиболее дружен? Что вы могли бы сказать об этих девушках?
Молчание. Кто-то из студентов запомнил Сашкины шепотки на построении, кто-то просто замер, как кролик перед удавом.
– Что молчите? Ну кто-то же с ними общается? Хотя бы по учебным делам?
Александр краем глаза посмотрел на Бурята – тот сидел с абсолютно белым лицом, как можно глубже вжавшись в стул. В тесном общаговском сообществе было прекрасно известно, что студент Бурятов, он же один из сержантов их взвода, спит с А в его мужской двушке, каким-то образом уговорив своего соседа по комнате на взаимовыгодный обмен. Все бы ничего, но любвеобильная А вроде как в своем родном городе была изначально замужем… Вообще, в «керосинке» испокон веков были очень строгие правила по расселению студентов: мужской пол жил обособленно в корпусах на выселках, а женское общежитие было соседним зданием с главным корпусом института на одном из главных московских проспектов. Парней в женское здание пускали в строго ограниченное время дня при предъявлении паспорта для оформления срочного пропуска, где обязательно прописывалась принимающая их комната и строгое время «совместных занятий над курсовым». Но к описываемой дате на выселках наконец достроили новые современные корпуса институтских общаг, и теперь абсолютно всех иногородних студентов переселили на эту территорию (сейчас бы сказали, в кампус).
Нонсенс состоял в том, что вместо прежней старорежимной надзирательной обособленности кто-то наверху (ректор? партком? министр?) решил, что парни и девушки из одних групп и курсов должны не только вместе учиться, но и жить как можно ближе друг к другу. Что, как выяснилось, не могло потом не привести к некоторой сексуальной революции. В результате на каждом этаже каждого из трех корпусов общаговского городка чередовались мужские и женские блоки (блок – помещение из двух спален на два и три человека с общим туалетом и ванной комнатой). Стоит ли удивляться, что некоторые сошедшиеся за время учебы пары изыскивали варианты обмена, претендуя на отдельную комнату в мужском или в женском блоке. Коменданты корпусов про то прекрасно знали, но обычно не возникали, так как с любого обнаруженного ими нарушения провинившимся принято было платить мзду, а также отрабатывать по зову комендантов некий оброк в виде внеурочных добровольных субботников.
Однако сейчас студенты продолжали хранить гробовое молчание, выдавать Бурята никому и в голову не приходило, включая даже идейно подкованного старшего сержанта Колю, заработавшего во время службы в армии партбилет. Несколько раз, меняя формулировки, конторщики задавали один и тот же вопрос о «дружбе» и о «разговорах» с чем-то, видимо, провинившимися девицами. Так ничего и не добившись, по предложению полковника-парторга всех ребят из взвода начали поднимать и задавать этот же вопрос, но уже индивидуально.
Каждый из поднятых скромно пожимал плечами и отвечал примерно следующее: «Скромные, неприметные студентки, такие серые мышки, живут своей личной жизнью, в общественных мероприятиях не участвуют, никаких личных контактов с ними не имел, ничего о них не знаю…»