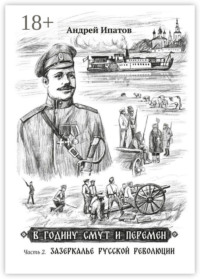Полная версия
В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность
Кстати, относительно личности Б это было чистой правдой, она действительно слыла той самой серой мышкой и ухажеров на курсе не нажила. Что касается дамы А, то ее как раз все знали хорошо, если не сказать больше. Чего только стоила история с укусом клеща в грудь на первой общей практике, когда А дала буквально каждому из парней попробовать себя – в смысле, чтобы помогли выкрутить этого клеща из сиськи. Получилось тогда ловко отодрать насекомое с помощью нитки только у Бурята, а уже утром начальник практики, зайдя в мужскую палатку, присвистнул, увидев спящую А в объятиях на раскладушке у Бурятова.
После допросов наконец последовали разъяснения от пришедших конторщиков. Оказалось, что недалекая А и, видимо, зомбированная ей серая подруга Б сдуру подписали какое-то политическое воззвание (вероятно, против шедшей тогда войны в Афганистане, хотя сейчас уже детали того события стерлись, о чем же именно оно там все-таки было…). Причем первая подпись, поставленная под этим манифестом, принадлежала не кому иному, как уже гремевшему на весь мир политическому мегадиссиденту академику Андрею Сахарову, трижды Герою Социалистического Труда. Впрочем, эти звезды в годы опалы у него отобрали, выслав в закрытый для иностранцев город Горький (хотя звания академика АН СССР изобретателя водородной бомбы все же не решились лишить).
Дальше шла достаточно подробная информация о том, как этих девиц органы уже пытались ранее перевоспитывать, но все зря – после каждой беседы они тут же созванивались с их «кураторами» по диссидентскому кружку. Последний момент Шусарашу особо задел: «Вот дуры, что они не понимали, что ли, что находятся „под колпаком у Мюллера“, да за ними теперь и в туалетах небось с помощью скрытых камер и микрофонов подглядывают, прослушивают все и вся…»
Наконец после часа «разговора по душам» прозвучал и соответствующий инструктаж: с А и Б категорически больше не общаться, бежать от них как от чумных, а если они будут вдруг вести идеологически вредные разговоры (если не поняли – вообще любые разговоры), то вот, мол, телефоны, по которым следует тут же позвонить. Студенты сделали вид, что записали эти телефоны…
Александра покоробила активность пожилого инженера-полковника (о том, что он парторг, никто раньше не знал). Дело в том, что этот седоватый высокий преподаватель в техническом плане был безупречен, говорил со студентами на занятиях назидательно, но по-отечески мягко. Пожалуй, он единственный, кто мог доходчиво донести до студентов суть своих лекций и оттого вызывал у многих сокурсников явную симпатию – технарь! А тут все увидели его в роли подающего злобные нецензурные выкрики и пытающего спровоцировать каждого из допрашиваемых курсантов на ответы невпопад. При этом сами конторщики ни разу не повысили голоса и вели свои разработки на вполне дружелюбной интонации. Иногда даже хотелось… войти в их положение.
Удивительно, но самих А и Б до конца учебы из вуза не отчислили, а с А Александру даже потом довелось поработать немного в одной московской научно-исследовательской организации. К этому времени она успела развестись со своим периферийным мужем, снова выйти замуж и тем самым обзавестись московской пропиской, необходимой для распределения в Москве.
Был в жизни Александра еще один случайный контакт на спортивно-туристическом поприще с признанным властями диссидентом – эмоционально-непосредственным парнем еврейской национальности, который, как оказалось, в несознательном отрочестве выходил протестовать с плакатом против чего-то недозволенного (скорее всего, за какие-нибудь притеснения к своей нации). С ним, на удивление, власти тоже обошлись практически одними разговорами, разве что поставив на учет в психдиспансер, перекрыв ему тем самым на всю будущую жизнь любые карьерные начинания, возможность преподавания, возможность получения прав на управление автомобилем и пр. Через пару-тройку лет этот несостоявшийся чудак-бунтарь благополучно со своей мамой эмигрировал в Израиль и, кажется, вполне нашел себя там, работая в одном из приграничных с арабской территорией сельскохозяйственных кибуцев.
Кто не служил, тот не мужик…
(за 10 лет до даты «Ч»)
Однако след на всю жизнь от «военки» в жизни Шусараши остался вовсе не из-за того случая, а от сдачи выходного экзамена, проходившего в одной из частей после лагерного сбора. Про то, что аттестация по военно-технической специальности после четвертого курса будет проходить, скорее всего, в лагере на летних сборах, было известно с самых первых занятий. Это было всем на руку: по возвращении в Москву как студенты, так и препы-офицеры могли до начала практики (или отпуска) неделю-другую позаниматься своими делами.
Хорошо известно было и то, как этот экзамен традиционно сдавался: пацаны в каждом учебном взводе накануне своего экзаменационного дня (а он у разных взводов всегда разный) дружно сбрасывались на ящик водки. Коньяк бы не осилил их скромный бюджет, да и в поселке он не продавался. После чего командир взвода с доверенными сержантами отправлялись в самоволку в сельмаг за спиртным, а потом они же заносили его в офицерское общежитие в расположение части. При этом сами студенты весь летний месяц жили на отшибе части в армейских шатровых палатках по восемь человек.
На следующий же день представитель офицерской комиссии вполне лояльно не мешал командиру взводу разложить билеты в матрицу 6х5 по нарастанию их номеров, что позволяло каждому аттестуемому легко вычислить по координатам Х и Y положение своего единственного билета, к которому он, собственно, только и готовился. Таким образом, любой дурак за отпущенные на самоподготовку перед экзаменом два-три дня способен был вызубрить этот оговоренный с товарищами личный билет и защитить его потом на оценку не ниже «хорошо». Подпортить эффект могли только спонтанные дополнительные вопросы, случавшиеся крайне редко.
Механизм сдачи экзамена не первый год работал как часы, если только не считать ежеутреннюю головную боль у аттестующих от выпитой накануне водки. Взвод Шусараши по расписанию должен был сдавать экзамен последним, накануне дня окончания лагерных сборов. До того момента у студентов курса (а это человек триста) была в арсенале только одна тройка – какой-то неврастеник переволновался и позорно запутался в своем изложении. Помнится, на него в столовой показывали пальцем – «вот, смотрите, лох идет…»
Тем не менее в нужный вечер перед экзаменом у последнего взвода офицеры демонстративно водку не взяли…
Сержанты принесли ее к себе в палатку, и началось шоковое выяснение отношений с командиром взвода. Все отчетливо понимали, что гарантии на сдачу завтра экзамена больше нет. Скоро от ребят из наряда (как бы охранявших палаточный городок) дошло известие, что утром в часть из Москвы приехал начальник военной кафедры, которого до того в лагере не было. В отличие от прочих кафедр института, он был именно начальник, а не заведующий.
Так вот ему один курсант персонально доложил про бутылочную сторону сдачи экзаменов. Разумеется, проигнорировать такой донос начальник кафедры не мог и, как полагается, для расслабившихся на воле офицеров начался форменный разнос, после чего грозный подполковник пообещал, что завтра сам придет на экзамен и проинспектирует успеваемость курсантов.
В отличие от многих на его кафедре пожилых полковников-отставников, начальнику еще только предстояло заработать право на погоны в три звезды, следовательно, мотивация навести порядок у него имелась.
Если до этого момента во взводе Шусараши присутствовала лишь глубокая растерянность, то тут уже началась натуральная паника. Кто-то бросился за конспекты, кто-то, матерясь, начал неуставное брожение в чужие палатки, чтобы пожаловаться на подлую судьбу и обсудить, каким образом курс будет отвечать выслуживающемуся доносчику. Тем более что этот типчик с химического факультета за свое членство в комитете комсомола института уже в первый день лагерного сбора получил от командира части погоны сержанта. Старослужащие на этот вызов дружно заскрипели зумами – они-то за эти лычки оттрубили в армии по полной два, а то и три (ВМФ) года. Этому же никогда не служившему ган… ну торжественно вручили их на целый месяц вперед только потому, что он был в активе. Вот он и отработал теперь доносом те лычки.
Однако утром следующего дня все началось вполне благопристойно: единственный присутствовавший преп-майор позволил комвзводу разложить билеты в нужном порядке, а студенты, отходя от мандража, разбились на первую и последующие пятерки, выстраиваясь по заранее согласованной очереди. Вперед обычно пропускали отслуживших в СА и ВМФ товарищей, потому как первую половину экзамена, как правило, принимал только один из офицеров (наиболее стойкий после вчерашних возлияний). Когда очередь доходила до следующих пятерок «школьников», в аудиторию могла заявиться еще пара-тройка преподавателей, что уже само по себе мешало испытуемым нагло списывать. К тому же каждый из вновь пришедших мог с похмелья случайно задать нехороший, непродуманный вопрос и поставить отвечающего в тупик.
Не успела первая пятерка зайти в аудиторию, как случился, в общем-то, ожидаемый форс-мажор – пришел начальник военной кафедры. Подполковник мило поздоровался с присутствующими, затем подошел к столу с билетами и натренированной рукой заядлого картежника перетасовал их, после чего разложил все это хозяйство двумя веерами в непредсказуемой последовательности.
Пятерка из старослужащих, наблюдавшая этот процесс перетасовки билетов из дверей, сразу же дала задний ход и объявила остальным, что им еще надо немного поготовиться… Дежурный преподаватель, видя заминку на входе, гаркнул на комвзвода, и тот уже своей властью в приказном порядке отправил на экзекуцию первую попавшую ему на глаза пятерку из состава «школьников».
Понятно, что всем им достались незнакомые билеты, по которым никто ни бум-бум. После этого опроса кафедральный начальник констатировал своим подчиненным (а к тому моменту в комиссии уже сидело человек пять офицеров) странный факт: «Как же так, до моего приезда были одни курсанты-отличники, а в этом взводе, как на подбор, собрались прожженные двоечники?»
Потом в аудиторию последовательно заходили другие курсанты-школьники, и картина повторялась. Исключением среди них стало только четыре человека: Хохлу повезло, и он без подготовки на удивление надзирающего начальника отбарабанил свой изначальный билет. Потом он, конечно, признался, что вытянул чужой билет, но ему хватило наглости и уверенности зачитать комиссии по памяти «свой» сокровенный номер и отвечать на «свои» вопросы. Комиссия, получается, поверила ему на слово. Еще один ботаник реально в предыдущие дни работал над билетами и потому заслуженно получил свой «хор.», ну а еще двум счастливчикам удалось невероятными усилиями памяти и логики дотянуть свои неуверенные ответы на слабенькую удовлетворительную отметку. Среди них был и Шусараша.
Просидев в комиссии две трети положенного времени, подполковник с тихим, но четко сказанным «все здесь понятно» неожиданно встал и покинул аудиторию. Препы сразу же объявили перерыв на перекур, в ходе которого командир взвода с другими старослужащими забежали в комнату и навели порядок с оставшимися билетами.
После перерыва бывшие сержанты и ефрейторы смогли показать класс, и репутация взвода в некотором роде была спасена. Средний балл подтянулся.
Той половине неудачников, кто в результате не смог сдать нон-стоп-экзамен, назначили его пересдачу уже в Москве. В результате они обидно потеряли свою халявную неделю и вынуждены были в течение летних жарких дней ходить в институт на военную кафедру, где пришлось по несколько часов, потея без кондиционирования, тупо высиживать на самоподготовке.
Троечники, включая Шусарашу, отнеслись к своей заслуженной низкой оценке с явным облегчением и пренебрежением – отпуск был спасен, а отметка по «войне» никак не влияла ни на стипендию, ни на средний балл за всю учебу в вузе. Эта оценка вообще никаким образом не фигурировала в их дипломах инженеров, оставшись где-то глубоко в недрах военкомовских архивов.
Вечером того же дня весь проэкзаменованный дембельский взвод гудел в одной из палаток, снимая пережитый стресс за ящиком невостребованной водки. Преподаватели и дежурные офицеры деликатно в этот вечер в палаточный городок студентов не заходили…
* * *Этот и похожие случаи, безусловно, подтачивали монолит стойкости у еще не окрепших «строителей коммунизма». Партийно-комсомольские активисты, каналы ТВ, газеты, транспаранты кричали о чем-то иллюзорном, а вот практика двойной морали и противоречивого бытия из повседневной жизни преломляла эти лозунги в совершенно другую, противную от лозунговой реальность.
Подрастающее поколение уже со школы осознавало оторванность официальной пропаганды от их жизни. Понимали люди и усугубляющееся экономическое отставание советской промышленности, особенно ущербность коллективного сельского хозяйства, не готового накормить страну. Шмотки, электроника, косметика, даже предметы санитарной гигиены – все превращалось страшный дефицит. К тому же, в отличие от изредка приходящих в Союз зарубежных изделий, отечественные товары народного потребления пугали своим низким качеством (особенно электроника), а также отвратительным внешним видом (одежда, обувь). Эти темы постоянно обсуждались не только в самой молодежной аудитории, но и «на кухне» вместе с родителями, а то даже и с собственными учителями, когда планировались маршруты воскресных вылазок на электричке в столицу (но не в театры и музеи, а в колбасно-мясные очереди). С каждым годом развитого социализма два мира (всеми осязаемый и другой, из иллюзорной ТВ-реальности) отдалялись друг от друга, причем с нарастающим ускорением. Кто-то потом скажет, что СССР погиб именно по пресловутой «колбасной причине» – Политбюро банально не смогло обеспечить народ сытным пайком. Однако в более глобальном смысле это случилось из-за того, что с годами разнесенные в бесконечную даль те две реальности советского человека перестали вмещаться в головах среднестатистических граждан.
«Долго будет нам Карелия сниться…»
(то же лето)
Пропустив майский поход на Кавказ, Шусараша решил отыграться летом. Однако июнь и начало июля пропали на военных сборах. По-хорошему в июле через недельку уже надо было ехать на преддипломную практику. Теперь по распределению для него была застолблена Тимано-Печорская провинция, но в город Усинск он решил не спешить. В конце концов, никто его не накажет, если сделать рокировку и поменять положенный отпуск в сентябре на более выгодный для туристических походов отпуск в июле – начале августа.
В первый же день после возвращения в Москву с военных сборов «дембель» срочно поехал в городской турклуб на Большую Коммунистическую. Там в заветных папках на двух столах лежали десятки записок-объявлений: кто куда идет, кто требуется в команду, кто сам желает присоединиться к самодеятельным туристам. Читать эти объявления было для Сашки огромным удовольствием: вот, завтра уже группа отбывает на Чирку-Кемь, а у этих до сих пор нет одного матроса, эти семейные с детьми – неинтересно. А вот куча объявлений от девиц-студенток типа «присоединюсь в каникулы к группе в Карелию или куда возьмете…» В определенной степени предтеча будущих брачных объявлений…
Всегда в самодеятельном туризме при организации походов кто-то кого-то ищет, но все равно обычно предложения опережали спрос. Капитану с лодкой было из чего выбрать, если он еще не обзавелся постоянным матросом. Разумеется, это касалось только походов по относительно легким категориям сложности (1—3). Начиная с четверки, а особенно в походе на пятую категорию считалось верхом легкомыслия брать неподготовленного новичка без опыта похода хотя бы на категорию ниже.
В этот раз Шусараша один (так было и в прошлом году), но теперь у него в наличии есть полный комплект необходимого туристического снаряжения: аккуратно проклеенная по кильсону толстой троллейбусной резиной байдарка «Салют-3» с удобным «фартуком» из серебрянки, самопальная палатка, широкий тент, самодельный спальник, настоящий летный спасжилет, удобный объемный рюкзак, полипропиленовые коврики, набор котлов, острейший топорик и компактная двуручная пила, а если понадобится, то найдется и прочее хозяйство. Был бы еще с ним такой же капитан с байдаркой из знакомых, то можно легко взять по объявлениям двух симпатичных девушек и махнуть с ними на несложную карельскую трешку. Жаль, не совпадают даты с походом знакомой группы старшего брата – те идут только с августа, ждать их двадцать дней в городе нет никакой возможности, иначе надо будет уменьшать сроки преддипломной практики до полутора месяцев вместо двух, а этого никак Сане не хотелось бы.
Пока Шусараша листал объявления, на него косился незнакомый, но внешне приятный парень с усиками, тоже тщательно просматривающий одну из папок с объявлениями. Через некоторое время он решился и подсел к Шусараше. Выяснилось, что у них уже сложилась группа с химфака МГУ в Кенозерский край на Илексу, но одна девушка-матрос как бы оказалась лишняя. А группе не хотелось бы ее терять, поэтому срочно разыскивается капитан с лодкой. А он – вот, оказывается, здесь рядом сидит и сам выписывает чьи-то телефоны на вечер.
Знакомство произошло молниеносно, приятного парня звали Вовой: «Выходим через три дня, а сейчас едем знакомиться с нашей группой». Ребята из группы Александру тоже все понравились, чувствовалось некое единение душ с ними, особенно понравилась та самая девушка по имени Света, чьим капитаном он должен был скоро стать. Надо же, как удачно! Сразу нашел вариант, и практика в Коми не пострадает!
На следующий день вечером в родительской квартире он застал друзей старшего брата, там прямо шла некая баталия! Оказывается, брат передумал брать отпуск и идти с ними в августе в поход на речку Охту в Карелию – вот они и приехали его уговаривать. Но тот ни в какую, даже причину своего отказа объяснять не стал: «Не могу, и кончено с этим». С ним это бывало, хорошо хоть, предупредил заранее, можно было успеть опять же через турклуб найти замену.
И тут его мужики (все, как и брат, лет на семь старше Шусараши, с которыми он был шапочно знаком) обратили взор на пришедшего домой младшего: «Тогда пусть вместо тебя он идет!» – «Вот еще, мне август не подходит, у меня практика! А потом, я уже сговорился вчера и на днях отбываю с хорошими ребятами в их поход на Илексу. Уж извините, уважаемые!»
Но тех как прорвало: «Нет, давай лучше с нами! Пожалуйста! Кажется, мы можем на неделю подвинуть свои отпуска в сторону конца июля! Мы тебе дадим в матросы симпатичную деваху Зою, она тебе точно понравится, как раз твоего возраста, тебе с ней будет весело и комфортно! Она компанейская! Еще будешь у нас адмиралом вместо старшего брата. Знаем, что опыт сплавов у тебя даже круче нашего!» – от них шла одна «морковка» за еще более заманчивой «морковкой», но Шусараша был непреклонен: «Нет, я уже дал слово. Подвести ребят не могу, они же на меня рассчитывают, не обольщайте, ради бога!»
Вдруг послышался звонок телефона, мама взяла трубку и кликнула Саню: «Тебя, уже третий раз сегодня этот звонит!» Саша подбежал к столику с телефоном – звонил взволнованный новый знакомый Вова: «Старик, катастрофа! Ты знаешь, Светка, твой матрос, сломала руку! Подломился каблук, и она упала с лестницы. В поход, разумеется, идти не сможет. Гипс, сам понимаешь! Я тут тебе по объявлениям подобрал варианты из потенциальных матросов как мужеского, так и женского пола. Может, ты сам их и обзвонишь, тебе же с ними потом в одной лодке париться!»
Кажется, сама судьба выворачивала на то, чтобы Шусараша непременно тогда встретился с Зоей. «Мужики, вы меня уломали, иду с вами, оказывается, мой потенциальный матрос сломал каблук и теперь не сможет идти со мной. Давайте только найдем в команду хотя бы еще один экипаж! Оптимально, чтобы группа была из четырех лодок. Вот у меня тут как раз одно подходящее объявление в запасе из турклуба осталось: пара, муж и жена, по возрасту на год старше меня, готовы присоединиться…» – «А чего, вот ты теперь, как наш адмирал, все дальше и организовывай! Доверяем!» – ушлые старшие товарищи поняли, что своего добились и теперь понемногу линяли от обременительных организационных обязанностей…
Судьба человека как шар в боулинге: катится себе по прямой линии, а потом из-за скрытого от глаз вращения – раз, и резко меняет направление. В результате падают почему-то совсем не те кегли, что, казалось, должны были упасть… Присоединившаяся по телефонному звонку к поездке на Охту супружеская пара и их круг знакомств в итоге стали для Шусараши близкими друзьями на всю жизнь. Деваха Зойка вообще сыграла в его жизни глубокую роковую роль, о которой он поведал выше в игре в правду. А еще через эту же кампанию Саня в итоге познакомился со своей будущей женой-медичкой Таней.
А ведь все должно было по первоначальному замыслу сложиться совершенно иначе: компания новых друзей должна была стать из круга Вовки, а там, возможно, сыграла бы свою роль и неудачная принцесса Светка… Однако… каблук, и нате вам: судьба вмиг раз и навсегда все кардинально поменяла в жизни Александра, да и многих других ребят его близкого круга тоже. Скажете, все было заранее предначертано? Нет, конечно, все случилось стихийно. Тем не менее он есть – кем-то управляемый хаос…
Глава 2.
Под влиянием кометы «Жюль»
(за 5—10 лет до даты «Ч»)
Курсовой меняет курс
Александр, определяясь на учебу в вуз, прозванный в народном обиходе «керосинкой», очень отдаленно представлял себе нефтяное и газовое дело. Но надо было, как все десятиклассники в их заштатном городке, определиться с будущей профессией. Офицером, как отец, он себя лет с десяти перестал видеть – скорее всего, переел этой гарнизонной романтики. Из остальных профессий с высшим образованием ему более-менее было понятно, чем занимаются инженеры. Врач, учитель, юрист – это все для него было абстракциями, чем-то «женским». Инженер же конкретен. Именно он двигает прогресс, именно на его плечах строится цивилизация. Брат предлагал подумать о фундаментальной науке (как он сам для себя выбрал), но Сашка в себе таких способностей и потребностей не ощущал. Вот с железками позаниматься, что-то попаять, усовершенствовать в работе механизмов – это было понятно и близко.
Техника его завлекала и своей сложностью, и своей практичностью. Долго он размышлял только над тем, какой отраслевой инжиниринг выбрать для будущей профессии. В те годы много писали про глобальный нефтяной кризис, а еще про то, что нефть – это кровь всей экономики в мире. Вот ему и показалось, что нефтянка – это солидно, это настолько фундаментально, что на века. Это, как часто тогда говорили про Пушкина А. С., «наше все»…
Строго говоря, как потом выяснится на протяжении нескольких последующих десятилетий, этот его выбор был вполне объективен. Кроме того, появлялась возможность посмотреть страну – нефть и газ были практически во всех ее уголках, а главное – углеводороды залегали на территориях белых пятен. Романтика, черт возьми! Сибирь, Арктика, Дальний Восток, Средняя Азия!
Но, начав учиться в вузе, Шусараша вдруг засомневался в своем выборе. Вот его школьный приятель Гошка поступил в МАИ, а самолеты-ракеты – это как раз истинно высокие технологии. Это высоты, к которым можно стремиться всегда. А у него что? Насосы-качалки, трубы, задвижки… Срамота!
Но время лечит. Он и привык к тому, что приходилось изучать. Разработка месторождений вообще-то сводилась не только к банальному отсосу нефти из пробуренных скважин. Это тебе в одном флаконе и подземная гидромеханика, и гидродинамика с геофизикой и геологией, и физико-химические методы повышения выработки пластов, и прикладная математика – короче, многое! А это многое еще и завязано в тугой технологический узел, развязывать который, как со временем оказалось, интереснейшее дело для вдумчивого инженера. Специфика его будущей профессии выходила далеко за рамки механики, тут и физика с химией, а еще, как выяснилось на поздних курсах обучения, нужна базовая прочная математика и даже мало тогда еще всем понятный вычмат.
Пока Шусараша осваивал студенческую и вообще взрослую жизнь, у него в планах на нее все было просто: отучусь, да и поеду в Сибирь, а там карьера понятная – начнешь с низов и будешь постепенно восходить на внутренний периферийный Олимп: инженер-оператор, начальник цеха (это сотня-другая эксплуатационных скважин и инфраструктура к ним), а может, даже и в главные инженеры какого-нибудь нефтегазодобывающего управления (НГДУ) выйду. Но будни освоения Сибири и Севера – это не только материализм повседневного труда, это еще и идеализированная романтика: походы с верными друзьями, песни у костра, рыбалка, охота, тундра! Наконец, такая манящая для юного индивидуума полностью самостоятельная взрослая жизнь! Ну и бонусом – весомая зарплата с разными умножающими ее надбавками: полевыми, территориальными коэффициентами, полярками!