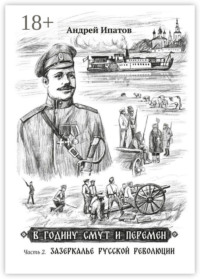Полная версия
В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность
Уже на производственной практике Сашка, как техник-стажер, получал на руки по три-четыре сотни рублей в месяц (те же деньги были у отца-полковника, заместителя заведующего кафедрой в военно-инженерной академии). Нет, все-таки нефтянка в итоге оказалась круче авиации и подсознательно солиднее нее. Был, например, такой случай: приехав однажды на молодежную конференцию в Оренбург, Шусараша крайне удивился, когда администрация городской гостиницы выселила из положенного ему по брони номера нещадно упирающегося за свое просроченное место офицера: «Ну и что, что вы военный летчик. Горком на всю неделю выделил бронь для нефтяников и газовиков! Они кормильцы нашего города!»
Возможно, что в производственных планах на будущее у Шусараши и не было бы существенных сбоев, если только на четвертом курсе кое-что не изменилось в его взглядах на профессию. Катализатором этой трансформации стал случай.
Руководителем его курсового проекта в весеннюю сессию был назначен (совершенно стихийно) один известный и маститый профессор. Очень необычно его звали все, от ректора до студентов и его же собственных внучек. Полное имя-отчество профессора было сложнопостроенным: Жорес Юрьевич, с добавлением грузинской фамилии Ломидзе. По первым буквам выходило: ЖЮЛь.
При встрече с Сашей Жюль начал с подробного знакомства с ним, расспросив, кажется, всю его биографию и подноготную про всех близких и дальних родственников. То, что парень не имел за спиной никого из близких, связанным с нефтегазом, его почему-то очень развеселило и воодушевило. Потом они так же долго говорили тет-а-тет о разных направлениях в разработке и диагностике выработки на нефтяных месторождениях. Казалось бы, зачем так глубоко копать? Дай студенту любую тему из утвержденного на кафедре списка, и пусть он дерзает, а уж коль с вопросами подойдет – тогда уж можно и потратиться на консалтинг для студента.
Нет, этот Жюль оказался совсем не формалистом, а, наоборот, крайне въедливым и настойчивым, если не сказать упертым. После фразы «А вы, Александр Александрович (это он про Шусарашу), можете далеко пойти, если вам как следует дать пинка в нужное место!» он начал долго и, казалось бы, отвлеченно рассказывать подопечному про одну свою застарелую и сумасбродную, но красивую техническую идею. Студент согласился, что идея красивая, но явно безнадежная, даже в отдаленной перспективе нереализуемая. В итоге наставник резюмировал: «Жаль только, что у меня с ней ничего не вышло. Больно муторно оказалось собирать и систематизировать требуемые данные. Может, у вас это получится? Давайте-ка сделаем это темой вашей курсовой работы на семестр!»
«Он вообще нормальный? Что мне прикажете делать с этой сверхзадачей? У меня скоро заплывы на байдарках начнутся по половодью, в мае наклевывается большой поход на Кавказ, мне бы тему курсача такую, чтобы за день сидения в библиотеке там все передрать и еще за ночь красиво нарисовать и разукрасить. А тут нате вам! Пишите целую диссертацию, не зная о чем, непонятно даже, с какой стороны к ней подступиться… Нафига козе баян?»
Но уже через три дня он, кажется, придумал, как из этой западни можно с честью выкрутиться, не потеряв своего лица и сэкономив время: «Попрошу брата помочь сделать одну программку на фортране, еще попрошу, чтобы он у себя в институте посчитал по ней требуемый вариант модели разработки пласта. Конечно, из всего этого ерунда получится, но, по крайней мере, профессор Жюль не скажет потом, что Шусараша ничего не пытался сделать по его гениальной идее… У брата на работе уникальная ЭВМ БЭСМ-6 в тысячи раз мощнее наших НАИРИ институтских, выход на нее должен дать колоссальную экономию времени. Для брата это ерундовое одолжение, а для меня целый майский поход».
Конечно, гладко было на бумаге, а потом пошли овраги… Работа над программкой, а главное, над ее отладкой заняла массу непредвиденного времени. В какой-то момент Шусараша вдруг осознал, что работа эта его настолько затянула и поглотила, что ради нее можно какими-то байдарочными выходами в сезоне и пожертвовать. Дальше – больше: его друзьям предстояло узнать, что в этом году их «адмирал» с ними на Кавказ не идет, максимум готов выбраться на три дня в Подмосковье.
Промучившись с программой, а потом и с расчетами по ней (несмотря на помощь волшебной БЭСМ-6), Шусараша за день до сдачи курсача с горечью признал, что «все было впустую… ничего в итоге из проведенных расчетов не вытанцовывалось…» Курсач по порученной Жюлем теме не склеивался, оформлять его по шаблону не было никакого желания и времени. То есть по факту работа была им полностью провалена, так в остатке получился набор сырых расчетов, ничего не проясняющих графиков и заметок.
Измученный, подавленный и с глубоко испорченным настроением принес Санек на следующее утро свои полуфабрикаты на суд комиссии, вывалив перед ними кучу машинных распечаток с графиками. Члены комиссии в недоуменье развернулись в сторону уважаемого профессора: «А где, собственно, сам курсовой проект?» Тот, ничуть не смутившись, попросил Шусарашу рассказать по порядку, как шла работа и в чем же возникли у него проблемы.
По мере рассказа о сделанном брови профессора поднимались, а глаза округлялись. «Вот что, дорогой вы мой, подход ваш был вполне правильный, жаль только, что вы меня о нем своевременно не поставили в известность, не проконсультировались даже. Но сейчас не об этом – дальнейшую работу мы с вами теперь скорректируем, как и планы по ней. Начинайте-ка делать теперь по этому заделу свою дипломную работу! Вот что я вам скажу. Мне того, что вы уже показали, вполне достаточно, чтобы аттестовать вас на две или даже на три курсовые работы, но это все ерунда в сравнении с тем, что нам с вами еще предстоит продолжить делать. Да, может, и через год ничего по ней путного опять не выйдет – не беда, пойдете ко мне в аспирантуру и рано или поздно, я уверен, домучите эту чертову аномальную геостатистику. Может, вы и не родились для науки, как мне сами говорили, но она вам определенно нужна до мозга костей, что и показал настоящий эксперимент! – профессор Жюль победоносно окинул взглядом ошарашенных членов комиссии. – Запишите там в протокол: оценка „отлично“, и он теперь только мой! Будем работать!»
Что плохого в солидарности?
(ноябрь, за 10 лет до даты «Ч»)
Поучительная история случилась в период учебы и у Сашкиного институтского приятеля Пашки. Одно время они вместе жили в общей комнате институтской общаги. Паша (как его еще звали в группе, «парень с Урала») был крайне открытым типом – уже через два дня весь блок знал про него все, включая интимные подробности. Взамен откровений от слушателей он не требовал, и это всех устраивало. Первые недели их общажной жизни слушать его веселый и во многом наивный треп в минуты усталого равнодушия, развалившись на койке, было намного приятнее, чем смотреть в красном уголке телек (когда там не было футбола с хоккеем) или читать надоевшую книжку, неизвестно каким путем попавшую в руки. В этой связи Шусараша, даже переехав потом по разнарядке в другой блок, все равно всегда был в курсе Пашкиных катаклизмов и потрясений. Иной жизни у того почему-то определенно не складывалось. Характер у паренька с Урала был хоть и мирный, но нестандартный, немного дурной…
В этой истории речь пойдет о временах, когда в соседней Польше «обосновалась контрреволюция» – люди там вдруг в 1981 году стали плохо относиться к социализму и ради меркантильных своих потреб объединились вокруг самопального профсоюзного объединения под героическим названием «Солидарность». «Солидарность» та стала нагло и настойчиво выбивать из правительства ПНР все больше прав, а вместе с ними и как бы более достойную рабочего человека жизнь. И хотя советская пропаганда рисовала те события в мрачных черных красках, студенты в СССР между собой рассуждали примерно так: «А что тут такого? Профсоюзы ведь не только для того, чтобы взносы собирать и распределять по блату путевки между своими. Они по определению призваны отстаивать интересы рабочих и прочих трудящихся. Так нас учили, между прочим. Разве профсоюзное движение – не базис социализма? У нас его просто извратили до неприличия в бюрократическую прокладку парткомов».
Вообще, у студентов тех лет не было серьезных аполитичных умонастроений, все жили своей личной жизнью или максимум жизнью круга тесного общения. Например, Шусараша жил исключительно проблемами близкого ему туристического сообщества, а еще кругом интересов с институтскими ребятами. Особенно с теми, с которыми они вместе занимались разными видами спорта и выступали на соревнованиях за вуз.
Но была в стране еще пресловутая прослойка интеллигенции (это ленинизм так вещал, что в СССР есть два класса, рабочих и крестьян, а между ними затесалась та самая прослойка), близкие узы с представителями которой у Сашки тоже объективно имели место быть. В традицию членов этого сомнительного прослоечного сообщества при встречах входило в привычку обсуждать хоть и не запретные, но не приветствуемые официальной идеологией темы: «почему наши компьютеры самые большие, но не самые быстрые в мире?», «почему наши товары, инструменты и машины настолько хуже западных?», «когда же в СССР будет уровень жизни населения, какой, судя по людям, ездившим „туда“, достигнут в странах загнивающего империализма?»
Раньше на языке партийной бюрократии такие разговоры и мысли непременно отнесли бы к ревизионистским уклонам. Уклоны, от которых, казалось, товарищ Сталин в годы своего правления навсегда отвадил интеллигенцию, заставляя не только не говорить, но и не думать об этих безответных вопросах. Однако на солнышке хрущевской оттепели и умиротворенного брежневского застоя… сорняки опять повылазили. Люди интересующиеся, пытливые, с некоторым багажом неофициозных знаний, с собственными философскими понятиями, с невесть откуда взявшимся чувством собственного достоинства, вообще люди умственных и творческих профессий, а также некоторая часть студентов с их нигилизмом опять взялись за свое…
Так вот, у друга Пашки в тот год случился любовный роман с девушкой из соседнего с ними общежития Института русского языка, и она была полька – Эльжбета. Хотя Паша не был красавцем, но зато, легкий на общение, он без стеснения мог законтачить с любой девчонкой, заболтать ее и, как говорится, быстро привести к общему знаменателю. Поэтому то, что у него теперь новая пассия польской национальности, никого из знакомых не удивило. К тому же, когда Сашка поимел честь с ней лично познакомиться, он почему-то сразу вспомнил свою первую женщину Полину – что-то общее у них с той Эльжбетой, несомненно, было. Друг даже попытался Пашку предостеречь: «Не особо втюривайся в эту польку, у нее на родине наверняка кто-то есть, а ты у нее какой-нибудь двузначный номер, нужен просто как опыт сношений с экзотикой – с „сибирско-уральским мужиком“…»
– Да ты не понимаешь, Шусараша! Мы скоро поженимся и после институтов уедем к ней в Польшу жить, я уже начал учить их язык! Да что там язык, если понадобится, я даже в католическую веру у них обращусь для венчания. Мне, Фоме неверующему, на это раз плюнуть. Скоро мы на летние каникулы к ней поедем знакомиться с родителями. Ты не знаешь, как поменять рубли на злотые?
– Не переусердствуй! В Польшу тебя из-за политических осложнений сейчас не пустят, да и родственники ее вряд ли тебя примут с распростертыми объятиями. Они там все люди сдвинутые в национальном вопросе, да еще эти паны крайне практичные, домовитые, можно сказать, корыстолюбивые. А с тебя что им взять – фиктивное католичество?
– Ах, ты так о нас думаешь! Хорошо, спорим – будет все как я сказал!
– Даже если мы с тобой поспорим на пять червонцев – максимальный бонус, который можно с тебя или с меня теоретически срубить, то судьба твоя лично мне дороже. Спорить не буду. Впрочем, может, у вас там в самом деле любовь, мой Ромео? Тогда вам можно лишь посочувствовать, но никак не позавидовать.
Прошло некоторое время. Пашку в Польшу даже с приглашением от родителей невесты не выпустили, а он, дурачок, до самого конца в это верил… Она же обратно в Москву почему-то доучиваться потом не вернулась. Но это только половина трагедии. Контакты и попытка выезда за границу в бунтующую Польшу не прошли для Паши без последствий. Он говорил, что в начале осеннего семестра на пятом курсе его вызывали в партком института и давали советы, дружески так, но напористо: «Вы еще молодой, многого в этой жизни не понимаете, можете сдуру понаделать ошибок, а потом всю жизнь жалеть…»
Странно другое. Пашка все пять лет хорошо учился, более ровно, чем, например, Сашка. Средний балл по диплому у него выходил на 4,5, без троек. Но при защите диплома его почему-то сделали крайним по списку. Защиту назначили на день, когда в потоке курса осталось только два человека – он и еще один хвостист, надеявшийся все же успеть пересдать свои двойки и пропихнуться на защиту диплома.
Ребята с курса в тот июньский день уже успели позабыть про институт с его экзаменами, тем более что по телеку транслировали чемпионат мира по футболу. Вечером к ним прибежала сокурсница с диким воплем, что Пашка на межэтажной лестнице вены порезал и, наверное, уже умер! Началась суматоха, вызывали скорую, пытались пережать жгутом порезанную руку, остановить кровь… Слава богу, вовремя его на этой лестнице обнаружили, медики успели спасти.
После всего пережитого выяснилась причина попытки суицида – на защиту диплома допустили только его одного, но препы с кафедры на комиссию не пришли (как и сам научник, руководитель его диплома). В итоге на Пашкиной защите были какие-то случайные люди, которые, не дав парню закончить доклад, обрушились на него с совершенно дикими претензиями в неубедительности и халтурности дипломной работы. Это было странно, ведь Шусараша, да и другие ребята, знакомился с его материалом. Работа была сделана на вполне достойном уровне, имела массу новинок в технологиях и расчетах, а главное, и сам «кирпич», и вся графика были аккуратно оформлены, титульный лист разрисован положенными визами от всех требуемых согласующих лиц.
Пашка вообще упрашивал на кафедре, чтобы его пропустили в первых рядах (тем более что некоторые ребята не успевали и сами просили передвинуть их взад) – ему хотелось на июнь слетать на уральскую родину. Но по совершенно неаргументированной причине разрешение на то не дали. Типа список с датами утвержден деканом, а он уже уехал «на симпозиум» и не скоро вернется.
Так вот, выводом государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) было сначала вообще не засчитывать эту работу, но потом все-таки кто-то из присутствующих немного заступился за него, и ограничились трояком – оценкой, не только в корне не соответствующей знаниям и компетенциям Пашки, но и вообще редчайшей в практике защит дипломных проектов на факультете. Ближе к выпускному прошла утечка, что разыгранный на защите спектакль комиссии был уже давно заготовлен и прорепетирован как показательное наказание парню в связи с тем, что, несмотря на предупреждения парткома института и органов, он, как оказалось, продолжал настойчивые попытки в течение всего учебного года 1981—1982 отправлять письма Эльжбете, в том числе и через ее однокурсниц из Института русского языка.
Как известно, в декабре 1981 года путч «Солидарности» в Польше был подавлен, причем даже не понадобился, как раньше, ввод в страну войск Варшавского договора. Генерал Войцех Ярузельский справился своими силами. Однако грубое насилие только на некоторое время внешне купировало нарыв, причины же массового недовольства поляков так и не были устранены.
Паша после выздоровления и совместного прощания с ребятами на выпускном со своим троечным дипломом (собственно вкладыш с оценками тогда никто и не проверял…) тем не менее смог устроиться в один престижный подмосковный отраслевой институт, тесные связи с которым были им заложены еще при подготовке дипломного проекта. Правда, здесь не обошлось без фиктивного брака для прописки. Вообще, жизнь Сашкиного друга после того события многому научила. Паша перестал излишне откровенничать и доверять незнакомым людям, научился решать проблемы, заинтересовывая и мотивируя нужных людей (свойство, которое Александру так и не удалось в себе развить несмотря на то, что он, в общем-то, старался сломать в себе некоторые интеллигентские замашки). При этом Павел вел теперь достаточно замкнутый образ жизни. Что, впрочем, не помешало ему за десять после институтских лет пару раз жениться, и уже не фиктивно. После победы демократии в новой России Пашка несколько раз засветился на митингах у Валерии Новодворской. Так как те митинги праволиберальной партии ДС были чуть ли не единственными в стране несанкционированными, то особо нарывающиеся участники после митинга вместе с Валерией могли прогуляться до ближайшего отделения милиции, где после небольших формальностей им выдавалась справки о причине временного задержания.
Собрав несколько таких справок, поумневший Пашка сходил в посольство США и в результате этой мало кому приходящей в голову наглости получил разрешение на переезд в Америку в качестве политического беженца… Получив приглашение, он думал о предстоящем переезде почти целый год (за это время у его новой гражданской жены родился ребенок), но в итоге все-таки улетел на ПМЖ в Штаты. Как сложилась там его дальнейшая судьба, Шусараша выяснить не смог. Зная старого своего товарища, можно было предположить, что он там должен был так или иначе вписаться…
Самотестирование на предмет глубины влюбленности (за 9 лет до даты «Ч»)
Однажды Александр проснулся с чувством, что в его жизни случилось что-то невообразимое. И он понял, что причиной этого ощущения был необычайно реалистичный сон, редкий сон в ярко выраженных красках, с невообразимыми свободными полетами над всеми другими людьми, сон с признаниями его и ему в любви, сон с Зоей, сон, от которого с каждой секундой мало что оставалось…
Шусараша потом много раз думал, состоялась бы та его любовь к Зое, если бы не приснился и не запомнился тот невероятный красочный и необычный сон. Другой бы парень, наверное, тут же побежал на свидание к объекту своей любви, чтобы признаться ей в своих чувствах. Выглядело бы это, вероятно, так: «Милая, прошло полтора года после нашего знакомства, это срок, чтобы я смог понять наконец, что люблю тебя! Будь мне женой и верной подругой! Я сделаю все, чтобы сделать тебя счастливой. Поверь мне, ты не пожалеешь…»
Но для Сашки этот толчок был всего лишь причиной для начала испытаний нежданно пришедшего чувства – на самом ли деле это и есть та самая любовь или, может, это всего лишь остатки озарения от удивительного сна? Логика самопроверки была примерно такая: «Надо испытать себя, проверить на слабо. Испытать – значит подтвердить, что я могу перебороть то, чего больше всего боюсь на свете. А боюсь, я, пожалуй, высоты и змей! Брр…»
С высотой все удалось испробовать легко. В тот же день он поднялся на крышу родной девятиэтажки через практически всегда незапертый чердачный люк и осторожно пошел к краю плоской крыши их панельки. Остановился в метре и понял, что ноги больше не идут… Стало интересно, что будет дальше. Вернуться, что ли, быстрее к люку? Какое-то время искушение это не проходило, и была крайне навязчивой идея не дурить. Другая мысль состояла в том, что если это все же любовь, то недосягаемый образ его любимой должен помочь ему сдвинуться вперед. Пожалуй, что помог, через несколько минут он уже сидел, дрожа, на парапете, в довершение свесив ноги в пропасть. Вроде ничего страшного, только кружится голова и немного подташнивает, а пальцы рук самопроизвольно впиваются сзади в бетон парапета. Время шло, он сидел и даже начинал привыкать к новому состоянию. Понемногу Шусараша смог придать своему наклоненному назад телу более вертикальное положение и даже заставил себя частично наклониться вперед, что позволило смотреть вниз на улицу.
Люди на улице казались мелкими муравьями, шли себе каждый по своим делам, мамашки везли коляски с детьми, дети пинали мяч, вот только какой-то мужик пялился теперь наверх, прямо на него! Потом тот начал громко кричать и привлекать внимание других прохожих. Сашка удивился: «Что они тут такого увидели? Меня, что ли? Черт! Еще подумают, что я сигануть вниз собрался, и милицию вызовут!» Парень быстро поднялся, почему-то даже не осознавая в этот миг, что сейчас-то он как раз в самом деле стоит в стремном положении, буквально в сантиметрах от пропасти – чуть покачнется и тогда полетит вниз. Однако через минуту он все же неторопливо скрылся за дверью своей квартиры.
Отдышавшись, Шусараша понял: «Первое испытание я прошел. Теперь змеи, но где их взять? Не в зоопарк же идти, там они безопасны. В лес? Весна, рановато еще, да и где мне их там сыскать?» За всю предыдущую жизнь он видел живьем только один раз гадюку, недалеко от деревни деда – драпал потом метров триста… А ведь гадюка когда-то укусила его мать, когда та была еще малым ребенком. Возможно, оттого и возник у него некий генетический страх перед змеями, пусть и текла в его жилах какая-то микрочастица змеиного яда после того материнского укуса.
Случай проверки на змей предоставился только через год. Александр уже работал на своей первой работе в головном НИИ Всесоюзного научно-производственного нефтегазового объединения. Тогда и случилась в марте командировка в Туркмению. База газодобывающего предприятия находилась в полусотне километров от города Мары. В свободное от работы время ему как-то захотелось прогуляться по пустыне, тюльпаны уже сошли, и вместо красочного ковра снова зияла мертвая пустота с примитивным пейзажем: барханы и редкий саксаул. Знойной жары, к счастью, пока не было – она приходит с апрелем.
Шусараше тогда и в голову не пришло, что прогулка по пескам в зоне видимости от поселка может чем-то грозить нехорошим. Скорпионов и фаланг он уже к этому моменту насмотрелся на самой базе, где им с напарником выделили на время для проживания в производственном цеху комнатушку с кондиционером. Напарник сразу предупредил: «Пойдешь вечером в туалет – возьми газету!» – «Да я если только по-маленькому туда…» – «Да не для того газета, о чем подумал, свернешь ее в трубочку и будешь в коридоре фаланг отгонять! Не дрейфь! Все тут привыкают к этой нечисти. Днем их нет, прячутся, народ кругом крутится, а ночью выползают из щелей, гады. И скорпиончики с ними тоже случаются. Мух, мокриц и прочих насекомых в здании много, потому членистоногие здесь и облюбовали себе местечко, охотятся на них…»
И вот девственная настоящая пустыня, никаких тебе дорог и троп кругом, а парень идет себе, зажмурив от солнца глаза и сквозь щелки любуясь сыпучими просторами, собравшими в каждом бархане квадриллионы песчинок. Пустыня, о которой раньше доводилось только слышать или видеть глазами тэвэшника Юрия Сенкевича в «Клубе путешествий». И вот он теперь сам – покоритель Кара-Кума! Неважно, что в нескольких километрах гудит производство, бегают люди и сюда от них потягивает запахом с газовых факелов. А то дома бы спросили: «Сам-то был в пустыне?» – а без сегодняшнего выхода в поле пришлось бы промямлить: «Да так, видел ее много раз из окон машины и поезда…»
Веревка! Откуда здесь веревка? Уж не змея ли? Эфа! Настоящая песчаная эфа с зигзагообразным узором в виде крестиков по всему телу! Ну ты даешь! Довелось увидеть живую эфу! До того, проезжая на газике по местным асфальтовым дорогам, Сашке приходилось видеть раздавленных змей. Но это здесь не экзотика, экзотика – вот так стоять от нее в пяти метрах и рассматривать полудуги свернувшегося напряженного тела змеи. Небольшая еще гадина, где-то, если разогнуть, лишь полметра с гаком получится. Говорят, они плохо видят, но прекрасно слышат – почувствовала мои шаги по песку, вот и насторожилась.
А сейчас уже начала предупреждать о себе шуршащим звуком. Поползла наконец своим боковым ходом, отбрасывая голову вбок и затем подтягивая к ней заднюю часть туловища, и уж только в самом конце этого хода змея передвигает вперед и саму центральную часть своего тела. Красиво получается, крайне необычно, а след на песке – как косые полоски с крючками на концах. Но эта ползет все же как-то нехотя, видимо, еще слабенькая после зимней спячки, ведь на базе работяги говорили, что змеи не так давно вышли на поверхность из зимних нор.
Тут Александру пришла сумасбродная идея-фантазия: а раз она еще такая малоподвижная, то, может, догнать ее, да взять и перепрыгнуть? Это точно будет засчитано сдачей долгожданного теста на любовь к Зое! Ведь он планировал что-то, когда-то будет такая его встреча со змеей. Вот, видимо, этого случая судьба и ждала. Нет, конечно, не получится ничего из такой глупой затеи. Будь здесь твердая поверхность, то можно было бы подпрыгнуть хоть на метр и потом пролететь 4—5 метров. На городских соревнованиях Сашка как-то прыгнул в длину на 6,28 с разбега, но это даже не принесло ему призового места, хотя для женщин такой результат в середине 50-х был мировым рекордом. Здесь из-за рыхлого песка вообще не оттолкнешься и даже не разбежишься – ноги сразу же утопают в сыпучей вязкости. Тем не менее он еще долго шел по ее следам, рассматривая необыкновенный танец ее бокового скольжения по песку. Иноходка! Кажется, так больше ни одна змея не может двигаться, только эфы. Красавицы! Элита змеиная! И она его боится, она от него уползает, а не он от нее!