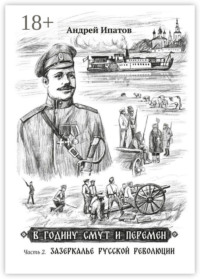Полная версия
В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность
Мужчина и женщина могут быть по-настоящему счастливы, если их встречные стороны натуры так называемых «половинок яблок» будут по рельефу близки между собой и легко лягут друг в друга по типу «выступы во впадины». Это прописная истина, о которых философы рассуждали еще в древние века. Тут, конечно, речь более о бестелесных неровностях идет, но и телесным своя роль полагается. Получается, что по жизни в этом деле проще всего людям без претензий и самомнений – их условно «плоские» половинки легко соединяются между собой и прилипают практически навеки.
Другое дело, если у контактирующих людей сложный импульсно-вспыльчивый характер, завышенная самооценка, высокая требовательность к партнеру – подобрать себе под эти «горы и ущелья» оптимальную пару крайне сложно, чаще всего приходится кому-то «шлифовать» определенные части своих поверхностей, а это всегда непросто, болезненно для внутреннего эго, требует определенной доли самопожертвования и самоотдачи.
К примеру, у бывшего идеала Александра Зои был очень сложный «рельеф» на открытой ему стороне половинки, и, что самое ужасное, рельеф этот постоянно мог видоизменяться, меандрировал… Стоило парню подстроиться под один ее выпирающий сверх меры «зубик», как рядом мог вырасти другой, а то и целых два новых. Свой же рельеф Сашка считал хоть и не плоским, но всего лишь с небольшими (хотя и принципиальными, как он полагал, а потому неприкосновенными) холмиками. В этой связи подстроиться (или сжиться) с ним нормальной среднестатистической девушке, казалось, несложно – было бы желание. Впрочем, это он так считал. А у его девушек мог быть иной взгляд на эти внутренние самооценки и неприкосновенные бронезащитные холмики.
Еще Александр полагал, что до начала процессов подшлифовки и притирки надо хорошо узнать встреченного (часто случайно) человека, понять его внутреннюю суть, найти его краеугольные камни. В его жизни была одна «странная» девушка, душа которой так и не открылась за полгода тесного, но какого-то невнятного знакомства. Потом ее подруга спрашивала парня: «Куда ты подевался, мы тебя потеряли, почему не звонишь своей старой знакомой?» – «Знаешь, капитулировал. Не могу взять в толк, кто она и что для нее в жизни главное. Характер вроде ее я понял, а вот как человека распознать – нет, не могу! Ядро так глубоко зарыто, что никакой сейсмикой не прозондировать. А может, и вообще нет никакого ядра?! Удивлениям после встреч с ней у меня не было предела! А без этой первой стадии знакомства идти куда-то дальше в личных отношениях – что по канату пойти без страховки и с повязкой на глазах…»
Был и другой, совсем противоположный случай. У той женщины на ее половинке изначально был прямо гигантский вырост – эдакий Эмпайр-стейт-билдинг, не меньше. Благодаря ему их общение долгое время проходило на очень большой дистанции – эдакий пинг-понг косвенных вопросов с еще более размытыми ответами. Подстраиваться под этот «небоскреб», прямо скажем, Сашке не имело никого смысла, да и возможностей тоже. И вот вдруг эта скала одномоментно рухнула, выпала, как молочный зуб у ребенка. Как только чудо свершилось, оказалось, что более тесное совпадение их двух половинок и вообразить сложно. Потом было два месяца счастливого проникновения друг в друга, очень яркого и короткого эмоционального подъема. Однако отношения те не продлились долго – женщина была много старше Александра, с большим жизненным опытом и, как выяснилось, с высокой моральной требовательностью к себе. Вот она и не решилась на продолжение служебного романа. Объяснив молодому человеку свою позицию, она сама разорвала все зачатки их влюбленности и исчезла, надолго покинув Москву. Самое удивительное, что она смогла тогда убедить парня в полной своей правоте, и он принял это ее решение как должное, как единственно верное, хотя это и стоило ему определенных шрамиков на сердце. Чего это стоило ей – даже подумать страшно…
Новогодние кадрили
Александр родился в год, когда минуло только 15 лет после окончания Великой Отечественной войны. Маленьким он еще застал и помнил безногих инвалидов-попрошаек, разъезжающих по улицам городов на дощечках с подшипниками, и угрюмых людей, блуждающих там же в своих серых одеяниях – в выгоревших гимнастерках и шинелях военного образца. Запомнились разговоры взрослых, особенно офицеров, сослуживцев отца, после третьей рюмки сводившиеся к тому, как и где они воевали, на каких фронтах получили ранения, какие герои были те парни, что не вернулись вместе с ними домой: «Война забрала лучших, элиту нашего поколения, мы лишь их тень…»
Женщины же больше вспоминали о погибших родственниках, о голоде-холоде, о минутах отчаяния, о трудностях и лишениях в те страшные для народа годы, о том, как поднимали и теряли своих детей.
Все они, эти взрослые, дружно ратовали за то, что наступившие 60-е, а за ними и 70-е брежневские годы – лучшие их годы, период настоящего счастья в жизни околовоенного поколения. Они еще не старые, не больные, дети встали на ноги, выучились, достигнуто какое-какое семейное благополучие, решился или решается жилищный вопрос, на праздничном столе пусть и неширокий, но ассортимент блюд, о которых в войну никто и не мечтал: баночная ветчина, черная икра, крабы, конфеты, торты. Конечно, цены кусаются, но ведь праздник!
Конечно, они всегда так или иначе обсуждали на домашних посиделках проблемы с дефицитом товаров, говорили о том, через кого бы можно достать билеты на поезд или нужные лекарства, как починить стиральную машину или телевизор. Но все равно ребенком Шусараша осознавал, что его взрослые искренне довольны той своей послевоенной жизнью, не зря же в школе говорили: «Мы живем в самой лучшей в мире стране, в самом правильном обществе социальных благ! Все должны быть в ней счастливы (а дети – особенно!)»
На самом деле те взрослые всего лишь никогда не забывали свое военное голодное детство-юность, ужасную цену потерь, которую вместе с Родиной заплатили за свое скромное благополучие и стабильность. Когда Александр с братом насмешливо тыкали перед родителями пальцем в телевизор, где по всем программам одновременно показывали путающегося в своей речи генерального секретаря КПСС, те лишь отмахивались: «Зато он за мир! Он миротворец! Главное, чтобы не было войны!»
Несколько диссонансом на этом фоне смотрелась позиция деревенского деда Тихомира. Он искренне считал, что мира в понимании обывателя ни с Западом, ни с Китаем нет и быть не может. При этом совершенно ни при чем идеология или другие социально-политические противоречия, разногласия и противостояния между их системами. Более того, он считал, что единственный правильный способ для его страны добиться на будущее стабильности и избежать военных конфликтов и междоусобиц – это всегда быть сильнее своих «заклятых соседей» (неважно, враги они сейчас или же наивернейшие друзья).
Еще дед Тиша говорил, что нельзя никогда и никому показывать слабость власти, нельзя уступать в принципиальных вопросах, особо в спорах о границах или о сферах государственного влияния, нельзя сдавать когда-то завоеванные позиции, бросать своих попутчиков по СЭВу и Варшавскому договору, если только они сами не нарушили клятву верности. А потому власть в СССР обязана была защищать свои ранее завоеванные позиции. Что Венгрии в 56-м, что Чехословакии в 68-м, что во Вьетнаме и Афганистане. Пережив столетний рубеж и дожив в здравом уме до развала Восточного социалистического блока, а потом и самого СССР, дожив до пика краха советской экономики и обрушения денежной системы, дожив до банкротства колхозов и обнищания сельских жителей, дед Тихомир и умер в конце 1992 года не от болезней или старости, а оттого, что не смог дальше видеть эти Содом и Гоморру…
Став в 1913 году в Российской империи солдатом пограничной стражи, дед даже к своему вековому юбилею им всю жизнь и оставался: «Границы – это неприкосновенно, это даже не кожа, это хребет нашей Родины! Без кожи страна просто уродлива, а вот без хребта – амеба, не способная к выживанию среди хищных тварей. А все чужие государства для нас только хищные твари, не надо строить иллюзий! Я вот всегда хожу по поселку с палкой, потому как в любой момент у нас тут может вылезти гадюка – государству тоже надо быть всегда начеку и иметь под рукой то, чем можно откинуть змеюку!»
Когда внук спросил у него об отношении к уже опальному после ХХ и ХХII съездов партии И. В. Сталину: «Мол, хоть и тиран, но говорят, что если бы не он, то СССР не победил бы в той страшной войне?!» – дед Тихомир резко парировал:
– Если бы не маниакальная и кровожадная сущность этого усатого людоеда, может быть, и войны бы такой разорительной не случилось. Не он победил, а мы – вопреки его самодурству, заносчивости и близорукости! Какие страшные жертвы из-за него страна понесла. Сердце кровью обливается, как вспомнишь. За что его благодарить? За то, что часть своих же прежних ошибок сумел поправить? После двадцать второго июня начал генералам и специалистам больше доверять? Развалил ведь, изверг, к сорок первому году своими репрессиями и армию, и промышленность, только что с трудом поднятую за счет гнета насильно загнанного в крепостничество крестьянства. Сколько преданных военных, инженеров и конструкторов, просто хороших людей от его подозрительности зазря погубили! Окружил себя лизоблюдами и недоучками, потому мы и драпали от германца два года. Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Кулик с ними – маршалы драпанья! А ведь вооружения у СССР перед войной было поболее, чем у фрицев. Мне твой старший брат Дмитрий присылал сводки, уж и не знаю, в какой библиотеке он их сыскал: самолетов – двадцать две тысячи против немецких шести тысяч, танков у нас было двадцать три тысячи против их шести тысяч, пушек – сто шестнадцать тысяч против их восьми тысяч! Только побросали наши все это в первые же дни войны… Гитлеровцы под Барановичами более четырехсот новых советских гаубиц захватили в заводской смазке, более трехсот наших лучших танков Т-34 и КВ у фашистов против нас же потом воевало. Да разве только это… А как было не захватить? Запугали же командиров, чтобы те ни одного моста после начала вторжения немцев не посмели взорвать. Мол, признают эти действия вредительством, которое не позволит потом Красной Армии провести контрнаступление! Если бы все по уму было тогда в стране, то Гитлер и сам на нас не попер! Побоялся бы! Тот ведь, ирод, как рассуждал: «Сталин командный состав уничтожил, на границе старые оборонные укрепрайоны расформировал, а новые не построил, промышленность беззубой стала, потому как лучшие инженеры и конструкторы на лесоповал отправлены, миллионы честных людей безосновательными репрессиями против себя настроил – нельзя такой шанс упускать, надо брать СССР, пока тот как гусь на тарелочке»! Да и в чем-то Адольф был прав. Если бы Муссолини ему тогда в марте-апреле не подпортил своей военной авантюрой в Греции, что задержало нападение фашистов на нас на несколько недель, то еще неизвестно, где бы враг был к моменту, когда пришли морозы под Москвой. Прошли мы, прямо скажем, по лезвию бритвы, хотя потенциально были на голову сильней своих врагов. Но, на наше счастье, Россия велика безмерно и оттого могуча! Все равно мы бы этих ворогов выбили, затравили зверя тотальной партизанской войной, заморозили бы на своих необъятных просторах! Только сколько же за ошибки вождя миллионов людей по-глупому погибло? Теперь вот называют цифру в двадцать семь миллионов, да из них все больше гражданские, военных только треть. Какие унижения и позор пришлось вытерпеть, пока наконец мы победу не выцарапали. Вы, молодые, этого не поймете уже. Это надо все на собственной шкуре испытать, просто так из книжек и из кино не понять. Вам, молодым, вообще легко в любую сторону мозги промыть, а вот нам, мужикам да старикам, многое пережившим, это не в жизнь! А ты говоришь, что благодаря ему – да вопреки ему! Назло ему, если хочешь знать, победу ту советский народ добыл! Ну и, конечно, помощь стране от союзников была большая. Лично Рузвельту за то наш поклон. Без его поставок по ленд-лизу оружия, техники, стратегических материалов, бензина авиационного, продуктов много дальше бы отступать Красной Армии пришлось! Одних паровозов мы тогда две тысячи из Америки получили, да грузовиков четыреста тысяч, я уж про танки, орудия, самолеты, боеприпасы и прочее молчу. Была бы в свое время такая иностранная помощь у Белой Армии – ни в жизнь большевики власть не удержали бы… Конечно, Сталин многое потом сделал для победы. С этим не поспоришь. Все знают о его вкладе, мемуаров про то написано немало. Он реально работал круглые сутки, впрочем, как и все мы. Да не в пример нынешним избалованным руководителям аскетичную жизнь вел. Но только и вина за ним немалая, что все тогда так тяжело далось народу…
– Дед, а твое поколение вроде горой теперь за Сталина стоит, ностальгируют по его твердой руке.
– Боялись его, вот теперь и обожествляют. Страх, он и с годами никуда не уходит, в глубине мозга прячется, в снах часто снится. Те, которые вождя не боялись да спорили с ним, – все давно в могилах. Неизвестно только, где те могилы… Главная особенность той нашей жизни заключалась в том, что при нем люди работали на износ. Вынуждены были так работать. Сам усатый круглые сутки работал – вот и других заставлял. Бесчеловечными способами заставлял, но цели своей в итоге добивался. Сейчас так уже никто, конечно, не работает. Изображают только, что работают, что стараются, но больше филонят. Потому как фактического спроса за результат нет. Раньше план не дал, кто-то из твоих подчиненных напортачил – а тебе тюрьма! Нас в районе с десяток было директоров маслозаводов. Все, кроме меня, в итоге сидели. В передовики, дураки, рвались, вот им план после рекордов и поднимали сверх меры. Я свой производственный резерв всегда при себе держал, больше ста одного процента в сводки не давал. Поэтому, когда неожиданно план нам поднимали, мне было чем ответить.
– Деда Тиша, а почему ты считаешь про потери, что их больше двадцати миллионов было? В титрах фильма «Освобождение» двадцать указано было!
– Знаешь, у нас официальным цифрам не стоит доверять. При Сталине и даже еще при Хрущеве до тысяча девятьсот шестьдесят пятого года велено было считать только семь миллионов советских потерь, хотя все понимали, что это явная ложь. Я интересовался у младшего сына, у твоего дяди Кости. Он в Москве в Высшей партийной школе философию да историю преподает. Так вот, с его слов – а кому не знать, как не ему? – не менее двадцати семи миллионов в СССР в ту войну погибло, хотя есть оценки и повыше. Это смотря какие методики применять. Данные об этом наши ученые и зарубежные специалисты многократно публиковали. Только простым людям читать про такое не положено. Причем это прямые безвозвратные потери, а я уж не говорю про то, что в нашем районе почти все, кто с той войны раненым пришел, прожили редко больше десяти-двадцати лет. Если до полтинника те окопники доживали, то и слава богу. Редко кому так везло. Вот дядька твой, артиллерист, Василий – редкое исключение. Уж, казалось, так сильно его поранило, что после госпиталя враз комиссовали. А ведь жив и до сих пор работает в полную силу! Видать, мои гены помогают. Да еще такой же зять наш, твой дядя-тезка. Тому, видать, моя дочь Лидия своей заботой и любовью жизнь продлевает. А вот других моих зятьев-ветеранов нет уже в живых. Пусть им всем земля будет пухом!
* * *Традиция людей, близких и не очень близких между собой, встречаться в праздники и отмечать их совместными посиделками, верно, идет с каменного века. А как же иначе! После напряженной работы (добычи мамонта) или учебы так нужна кратковременная возможность расслабиться. А значит, сообща выпить, вкусно поесть, потанцевать под приятную музыку с противоположным полом, пообщаться с другими людьми и увидеть, что ты им небезразличен, а они готовы тебя выслушать и чаще всего поддержать твое личное мнение или погоревать за твои неприятности… Вечеринка! Дискотека! Междусобойчик! Пати! Какие это блаженные слова для молодежи 80-х, особенно для особей, заполнявших соты студенческих общаг, – ребят и девчат, хоть и на время, но оторванных от своих семей, родителей, школьных друзей.
Александру часто вспоминались встречи Нового года в течение трех его лет жизни в общежитии на юго-западе. На четвертом курсе его все же как москвича по основной прописке вытурили оттуда с вынесением выговора по комсомольской линии, который тут же аннулировался в связи с занятием им очередного призового места на межвузовской городской спартакиаде. Вообще, спорт за время учебы в «керосинке» часто выручал и защищал Шусарашу от справедливо (а часто и несправедливо!) напрашивавшихся дисциплинарных взысканий. «Справедливо» – это, конечно, за двухнедельные прогулы в институте во время майских и ноябрьских походов.
Нередко ему в комитете комсомола, а то и в деканате выносили очередное порицание или даже выговор «с занесением», но получалось, что одновременно тут же вручали и грамоты с благодарностями за высокие спортивные результаты в различных командах вуза. Не сказать, что это были такие уж большие достижения, но зато по многим видам спорта и достаточно стабильные. Вообще, Сашка и в институт был принят изначально с полупроходным баллом благодаря своему первому разряду по лыжам – физкультурная кафедра на этого кандидата в студенты еще при зачислении положила глаз, а он эту поддержку потом честно отработал за все пять лет учебы.
* * *Первый в вузе Новый год (НГ) запомнился какой-то дилетантской суетой тогда еще не сильно сдружившихся группой сокурсников. В каком-то хаосе они решали, где и как будут отмечать праздник, звать ли девчонок из их неблизкого по локации женского общежития и кто будет это делать. Словно на игре «Что, где, когда?» обсуждали выходы на точки, где за сутки до НГ можно купить приличной еды. С водкой было проще: входной билет для всех на праздник – поллитровка! С дам можно будет взять вином…
В итоге справили тот НГ неплохо, каждый из присутствующих как-то сумел проявить себя. Один парень (кстати, отчисленный после той сессии) за неимением валюты-пойла принес пачку зарубежных порнографических журналов, которые девушки смотреть категорически отказывались, но после того, как все парни упились и рассыпались спать, все же проштудировали. Шусараша тогда в первый и последний раз в жизни напился до чертиков, утром его рвало и тошнило – хорошо еще, что в его блоке общежития никого больше не было и унитаз был в полном распоряжении.
Наступило первое января, третьего числа предстоял сложный экзамен по химии. Голова болела, страницы конспектов были так тяжелы, что не хватало силы их перевернуть. В полдень Сашка пошел опять в тот блок, где ночью пили. Парни, уложив девчонок по ближайшим спальным местам, пытались отыскать и ликвидировать остатки пойла. Их предложение присоединиться он отверг. При одном упоминании о водке его начинало мутить и тошнить. Про предстоящий экзамен никто не вспоминал – наоборот, Тарасик, у которого в Москве жил родной дядька, доктор физмат наук (дома у которого он часто зависал на несколько ночей), проснувшись и убедившись, что кругом сплошной сушняк, пригласил всех присутствовавших с собой в гости к дядьке «…для продолжения банкета».
После двух сказанных одинаковых слов: «Удобно?» – «Удобно!» – все разом засобирались, включая и часть протрезвевших девчонок. С собой в качестве подарка к столу у дядьки имелось лишь три или четыре так и не начатых вчера тортика. У Александра мелькнула мысль все же не ехать с ними, а остаться и подготовиться к экзамену, но мысль эта как-то быстро заткнулась. Поэтому он, поддаваясь стадному чувству, пошел со всеми одеваться. Единственное, что Шусараша пообещал сам себе строго: «Вот посижу немного, пообщаюсь с академиком, но ни капли в рот! Вечером по-любому вернусь в общагу готовиться, на ночь там с ними не останусь…»
Дядька жил в громадной квартире в сталинском доме на проспекте Мира, которую получил вместе с какой-то то ли государственной, то ли ленинской премией. Его племяш Тарас нашел родственника в одной из комнат спящим и бесцеремонно растолкал. Узнав, что к нему нагрянули гости (которых он, конечно, приглашал, но, видимо, забыл…), хозяин, пошатываясь, вышел встретить народ. То, что это будет неполных двадцать человек, он явно не ожидал, но никак не показал своего удивления. Поцеловав галантно ручки девушкам, профессор изрек долгожданный приговор: «Пошли! Меня можно звать Павликом. Коньяк, к сожалению, закончился, но есть канистра горилки от ридной неньки Украины!»
Дальше опять щедро разливали, пили, изгалялись в тостах и комплиментах присутствующим (можно сказать, особо стойким) дамам. Через некоторое время из разных комнат квартиры выползло еще человека три, надо понимать, то ли домочадцев, то ли новогодних дядькиных гостей. Вообще, Хохол ранее упомянул, что родственные и любовные связи его любимого московского дяди для него самого большая загадка. Есть масса женщин, считающих его своим мужем, и еще больше отпрысков, называющих дядьку словом «папа»3.
К счастью для Сашки, вид и запах алкоголя вызывали у него по-прежнему то самое утрешнее рвотное чувство, поэтому он деликатно отсел подальше и изображал свое участие в пьянке со стаканом некипяченой воды из-под крана. Через два часа на квартире профессора добили остатки съестных припасов, включая стратегический запас сала, который недавно доставили вместе с канистрой самогона благодарные украинские ученики. К вечеру и гости, и хозяева снова попадали в горизонтально-сидячие позы от передозировки порочного алкоголя. Шусараша наконец смог демаскироваться и засобирался домой в общагу готовиться к первому в его жизни экзамену в первой же сессии.
Неожиданно на эти его приготовления с надеванием куртки очнулась какая-то хозяйская личность женского пола лет тридцати. Почему-то она была еще не вполне «готова» и даже могла относительно трезво рассуждать. Девица, отыскав пачку сигарет и закурив, задала Александру ряд вопросов, включая не только то, кто он есть такой, но и звучащие немного странно: «А вы вообще все кто такие, какого лешего тут разлеглись? Какой еще племянник вас пригласил? Тарасик? А он что, племянник? Я думала, это очередной сын Пал Палыча! А сейчас ты куда идешь, к экзамену готовиться? Возьми меня с собой! Я страсть как люблю к экзаменам готовиться. Особенно по ночам…»
Как ни пытался Сашка от нее отмахнуться, но она буквально прилипла и в итоге сползла за ним до самого первого этажа по некоторому подобию шикарной мраморной лестницы, которую ему пришлось преодолевать, отступая и семеня задом. На улице во дворе было скользко, мела поземка. И все это на фоне морозца в минус пятнадцать градусов. К тому же дама была явно легко одета (в шубейку, но очень короткую, только ей до пупка), пришлось взять ее под руку и деликатно довести до метро. По дороге она непрерывно что-то невнятное говорила и сама же выразительно над этими словами ржала.
Парень был уверен, что теперь, немного протрезвев на холоде, она либо мотанет обратно к дому «Павлика», либо все же поедет восвояси к себе домой. Из разговоров складывалось определенное впечатление, что квартира Павлика для нее все же вполне чужая.
Войдя в метро и узнав, что Сашке надо на «Калужскую» по прямой линии, она обрадовалась, что им «опять по пути». Заплатив за даму пятачок на входе (почему-то у той не было с собой даже сумочки), Александр аккуратно довел ее до нужной платформы и усадил в практически пустой вагон рядом с собой. Сначала они немного беседовали на разные дебильные темы, после чего дама, так и не назвавшая ему свое имя, крепко уснула. Поезд, похоже, был в этот день последний. К тому же машинист объявил, что дальше станции «Новые Черемушки» он не поедет, поезд уйдет в депо.
«Вот черт! Влип я с этой дурой! Куда ее теперь девать? Поймать такси, чтобы домой отвезли, но только на какие шиши – этот Новый год меня полностью финансово обнулил. Не в общагу же ее вести, да там на проходной и не пропустят, самому в такое время кто дверь наружную открыл бы» – примерно так рассуждая, Шусараша от безысходности все-таки дотащил усталую даму до своего корпуса в общежитии. В конце концов, там перед охранником есть лавка для гостей, вот на нее он попутчицу и скинет, а сам без лифта даст деру по лестнице к себе на этаж. Пусть охранник с ней дальше морочится…
Однако входная дверь у них была открыта настежь, а чтобы ветер ее не захлопнул, кто-то преднамеренно придавил створку тяжелым ящиком. Вероятно, студенты, как и они вчера, еще продолжают бегать кучками наружу. Покурить, а больше покричать да взорвать какую-нибудь хлопушку. Охранника он сразу и не увидел. Тот был на положенном месте, но, видимо, тоже наклюкавшись, блуждал в сновидениях, упершись головой в настольную лампу. Дама же, как назло, снова пришла в себя, и надежды на то, что она молча завалится на скамейку, не оставалось. И тут Сашке пришла в голову подходящая идейка!
«Мы к тебе? Это хорошо! А что это за дом с такими длинными коридорами? Какая общага, ты что, не москвич? Фу ты какой! Лимита, как и я! Ну идем же, мне тут надо кой-куда…»