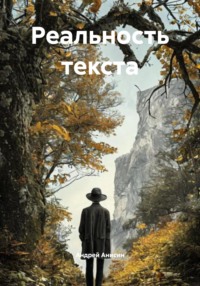Полная версия
Принцип соборности бытия
Тема личности должна быть дополнена еще одним замечанием. Мало сказать, что Бог – Личность, в свете новозаветного мировоззрения Он есть Три Личности, единые по Существу. Тайна Троицы, несомненно, составляет один из наиболее важных истоков осмысления идеи соборности и философской разработки принципов соборного единства.
Далее, Бог библейского мировоззрения есть Творец по отношению к миру. Идея творения, как и идея личности, является принципиальным онтологическим основанием философской разработки темы соборного единства. Идея творения, во-первых, предполагает всецелую определенность всякого бытия Божественным сверхбытием: все, что есть, только творческой силой Божьей определено к бытию, и ничто иное не лежит в основании бытия. Творение совершается «из ничего», утверждается онтологический монизм, это во-первых.
А во-вторых, идея творения напротив предполагает принципиальный дуализм бытия: Бог не есть мир, и мир не есть Бог. Есть Бог, и есть мир, но – в том смысле, как есть Бог, мира нет, а в том смысле, как есть мир, Бога нет. Сознание европейца уже так привыкло к идее творения мира, что утратило способность по-настоящему понимать ее, утратило способность видеть парадоксальную сверхразумность этой идеи и философскую ее ценность и глубину. Мир не имеет никакого другого источника своего бытия, кроме Бога, но мир не имеет в себе ничего божественного по природе, – это не может просто укладываться в голове.
Разуму было бы понятно, если бы платоновский демиург создал мир из вечно существующей материи, это даже не сильно противоречит логически необходимой «полноте бытия» в Боге, поскольку материя – это лишь потенция, возможность настоящего бытия. Главное, что в этом случае мир имел бы оправдание своему онтологическому отличию от Бога, он бы коренился не только в Боге. Была бы понятна разуму и противоположная логика, если бы мир проистекал из Бога неоплатонической эманацией, а вопрос, почему Абсолют «деградирует» с трансцендентных высот до грубой физической реальности, это вопрос уже следующий, и его можно решать очень долго и «продуктивно». А главное, что мир в этом случае сохранял бы принципиальное онтологическое тождество с Богом, и монизм «Единого» оставался бы неколебим.
Идея творения отвергает и тот, и другой вариант «логичных построений», настаивая на парадоксе. Но только на основе этого «парадокса творения» возможна намечаемая в настоящем исследовании философия соборности. Содержательное раскрытие значения идеи творения для темы соборного единства составляет задачу специально этому посвященных глав, пока же предварительно следует отметить следующие моменты.
Мир рисуется в Библии живым, творение откликается на голос Творца: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо» (Быт. 1, 11-12). Творению знаком и «священный ужас»: «Море увидело и побежало; Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод» (Пс. 113, 3-8). Творение славит Творца: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились; поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки» (Пс. 148, 1-12).
Важно при этом отметить следующий момент: «одушевленность» мира в библейском мировоззрении коренным образом отличается от одушевленности античного Космоса. По отношению к Космосу об одушевленности можно говорить в прямом смысле без кавычек, в Библии «одушевленность» мира делается в некотором смысле поэтической метафорой. Ни солнце, ни луна, ни небо, ни земля, ни «воды, которые превыше небес», не являются существами. Библейское повествование подчеркнуто антимифологично, говорить о «библейских мифах» может только человек совершенно не чувствующий, не понимающий, что такое миф, либо сознательно смешивающий религию и мифологию. В отличие от принципиально антиисторичного мифа библейское повествование всецело исторично. Можно не верить ему, можно сомневаться в точности сообщаемых им сведений, можно считать (с большим трудом и ценой большой недобросовестности) библейскую историю целиком выдуманной, но нельзя всерьез отрицать то, что это – именно история, а не миф. При всем разнообразии подходов к изучению мифологического сознания исследователи единодушны в том, что миф выстраивает свои сюжеты вне пространства и времени в их обычном понимании, миф олицетворяет все в мире и говорит о тех «вечных» сюжетах во взаимоотношениях олицетворенных стихий мира, повторение и воспроизводство которых «держит» и воспроизводит мир. Библия с первых же строк сообщает читателю, что солнце не есть сияющее божество, разъезжающее на колеснице, а луна – вовсе не богиня-девственница, а «сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы» (Быт 1, 14-18). «Светильники на тверди небесной», – вот бытийный статус солнца, луны и звезд, указанный в то время, когда божествами они считались у всех племен и народов.
Тварный мир, описываемый в Библии, отзывается на призыв Творца, славит Его, не будучи населен божествами. В отличие от античного Космоса, который есть мировой организм, в отличие от мифологического мира, скрепленного «вечными сюжетами», библейский мир имеет ясную «вертикаль», он во всем своем бытии, и в целом, и в каждой подробности связан с Богом, его «живость» есть следствие соподчиненности всех и каждого – Творцу. Единство мира обеспечено тем, что каждая вещь «обращена лицом» к Богу. Именно такая логика единства создает возможность развития в философском мышлении идеи соборности.
Помимо этих космологических предпосылок, христианство и на социальном уровне создает основания для развития идеи соборного единства. Эти основания образует Церковь, как особый духовный организм. В сфере антропологической мысли также проявляются мотивы соборности в виде утверждения гармонической иерархии духа, души и тела. Приходится, однако констатировать, что эти основания так и остались невостребованными западной мыслью, принципы соборного единства не стали предметом философской мысли Запада.
§ 3 Идея соборного единства бытия и новоевропейская философия
Причины, по которым идея соборности так и не была развита в рамках западноевропейской философии, лежат, видимо, в самих духовных и мировоззренческих основаниях западной культуры. По-настоящему разобраться в этих причинах и доказательно выявить их проявления на протяжении истории западной мысли, – такая задача могла бы составить предмет объемного историко-философского исследования. В нижеследующем изложении эти причины обозначены в самых общих чертах.
Западная культура является в духовном смысле наследницей Рима, она воспитана латынью, которая на многие века стала на Западе языком богословия и учености и сформировала, таким образом, весь строй и направление западной мысли. Характеризую кратко этот строй, можно сказать, что он имеет рационально-юридическую основу. Военная сила, армейская дисциплина и талант администрирования составили основу политической мощи Рима, римское право стало непреходящим образцом рационально-правовой организации жизни. К вопросам метафизическим римская культура была вполне равнодушна, довольствуясь в области философской мысли повторением античных образцов. Тот же самый характер приобрела и культура Западной Европы: на Западе первых десяти веков христианства мы почти не находим мыслителей, которые философствовали бы, исходя из христианских идей. Исключения в виде Августина и Боэция, пожалуй, только подтверждают эту общую картину.
Аврелий Августин, действительно, представляет собой яркий пример именно христианского философствования, его труды демонстрируют, действительно, некоторое принципиально новое и свежее содержание философской мысли. Но в этом своем значении Августин одинок, даже Боэций, будучи, надо полагать, искренним христианином и написав некоторые трактаты по тринитарной и христологической проблематике, является в своей философии не столько христианским, сколько «позднеантичным» мыслителем, – ничего принципиально нового, никакой оригинальной глубины и свежести не сообщает христианство его мысли. Комментирует ли он систему Порфирия или догмат Троицы, говорит он о двух природах Христа или о логике Аристотеля, – строй речи и мысли, весь ее инструментарий один и тот же. Христианство в Западной Европе так и не оплодотворило мировоззренческо-метафизическую философскую мысль, оно осталось на уровне внешних форм организации жизни. Этого, конечно, нельзя сказать о каждом европейце, но именно таков общий дух Запада.
Христианский Восток представляет в этом отношении другую картину. Здесь именно первые века христианской эры являются временем радикального обновления всей культуры не только на поверхности, но и в самых метафизических ее основаниях. Можно обозначить это время как «эпоху Вселенских Соборов», или назвать это «патристикой», временем деятельности «отцов Церкви». А суть этой эпохи заключается в преображении всей духовной и интеллектуальной жизни через освоение библейских, христианских идей. Все известные ереси возникали на христианском Востоке, в Византии, и это естественно: тот, кто ищет способы выражения неведомого доселе духовного и интеллектуального опыта, – рискует ошибиться, для творческой мысли возможен срыв и неудача, а не ошибается тот, кто не делает, неудач не бывает только у того, кто идет по чужим следам. Возникновение ересей и их преодоление – это и есть движение мысли за рамки собственной ограниченности, всякая ересь есть попытка старыми словами и схемами выразить принципиально новый смысл, в эти слова не вмещающийся, и этот конфликт требует для своего решения творческого прорыва.
По многим причинам, рассмотрение которых не входит сейчас в планы исследования, «начиная с IX века, дух самостоятельного исследования покинул греков»39, но до VIII века этот дух очевидно был им присущ. Именно в восточной патристике можно видеть творческое раскрытие уникальной философской глубины христианских идей, именно это раскрытие имеет первостепенную значимость для разработки идеи соборности в качестве философского принципа. Духовной наследницей восточно-христианской мысли стала русская культура и русская философия, в ней святоотеческое наследие восточной Церкви обрело свое продолжение.
Возвратимся, однако, к рассмотрению западной философской традиции. Как раз в том IX веке, когда «дух самостоятельного исследования покинул греков», в Западной Европе философия, напротив, все больше обретает собственный голос. «Каролингское возрождение» при Карле Великом с трудами Алкуина в самом начале IX века и системой Эриугены во второй его половине, арабская философия IX и X веков, – это и есть начало западноевропейского средневековья. Весьма показательно, что это зарождение философии неразрывно связано на Западе с обособлением разума из целостной духовной природы человека. Усиливающийся рационализм сознания и пробуждение в этом сознании философских запросов так тесно взаимно обуславливали друг друга в рамках западной культуры, что отождествились, в конечном счете, в ее рамках. Как нечто само собою разумеющееся даже и до сих пор звучит мысль о том, что существенным отличием философии от других форм духовной жизни является ее рациональный характер. Никого при этом не смущает изобилие «неправильной», не вполне рациональной или даже прямо антирационалистической философии. Рационализм есть некая «родовая травма» западноевропейской мысли, его стереотипы воспроизводятся ею даже непроизвольно и вопреки очевидности.
Западное средневековье сохраняет еще некоторую живую связь с духовными основами христианства, и потому в средневековой философии мы можем ощутить определенное идейное созвучие с принципами соборного единства. И в космологических, и в антропологических построениях, не говоря уже о теологии, ясно утверждается сверхрациональная основа единства бытия. И все-таки рационалистические мотивы проявляются в мышлении средних веков чем дальше, тем больше, находя свое классическое выражение в учении Фомы Аквината о вере и разуме как двух независимых и самодостаточных путях познания, о том lumen naturale rationis (естественном свете разума), который обеспечивает разуму возможность двигаться в познании, опираясь только на самого себя. В средневековой философии рационализм присутствует как тенденция, в Новое время он делается самодовлеющей и всеподчиняющей мировоззренческой установкой.
Новоевропейская философия существенным образом утрачивает опору на соборное единство духа, – такой диагноз ставили в свое время западной культуре старшие славянофилы. Иван Васильевич Киреевский определял этот разрыв с цельными основаниями цельного знания как «идеализм», Алексей Степанович Хомяков употреблял для обозначения этого коренного порока западной философии слово «рационализм», которое кажется нам несколько более точным. Впрочем, нельзя не сказать, что и Киреевский указывает на весьма существенное проявление западноевропейской «болезни» философии. Раскол философии на «материализм» и «идеализм» есть событие, относящееся, конечно, к XVII – XVIII векам. До этих пор не было ни материализма, ни идеализма в том их смысле, какой придает им Новое время. В античности и средневековье новоевропейские материалисты и идеалисты могут видеть некие предпосылки своих концепций, могут называть Платона или Плотина идеалистами, а Демокрита с Эпикуром материалистами, но сами эти мыслители ни материалистами, ни идеалистами не были. Выражения «античный идеализм», «античный материализм», конечно, имеют право на существование, они употреблялись уже в предыдущем параграфе, но внимательное и непредвзятое изучение вопроса показывает, что античная философия представляет собою единый процесс развития взаимосвязанных учений, что «материалисты» и «идеалисты» античности опирались друг на друга гораздо больше, чем полемизировали40.
Новоевропейский раскол философского сознания на материализм и идеализм является, во-первых, следствием утраты философией соборных духовных оснований своего мышления. А во-вторых, рационалистическое разложение единства духа имеет следствием утрату возможности видеть и понимать соборное единство бытия, сама тема соборности делается невозможной в рамках такой философии.
Некоторую внешнюю аналогию с принципами соборного единства можно видеть в философии Лейбница, в его «монадологии». Монады, духовные атомы различной степени духовной просветленности, каждая из которых – отдельная и уникальная субстанция, соединены, тем не менее, в нерасторжимое единство наилучшим из всех возможных способов. Более того, связь монад друг с другом обеспечивается связью каждой их них – с Богом: «В простых субстанциях бывает только идеальное влияние одной монады на другую, которое может происходить лишь при посредстве Бога, поскольку в идеях Божьим одна монада с основанием требует, чтобы Бог, устанавливая в начале вещей порядок между другими монадами, принял в соображение и ее. Ибо, так как одна сотворенная монада и не может иметь физического влияния на внутреннее бытие другой, то лишь указанным способом одна монада может находится от другой в зависимости»41.
При этом, если говорить об иерархии монад, то «души вообще суть живые зеркала, или отображения универсума творений, а духи, кроме того, суть отображения самого Божества, или самого Творца природы, и способны познавать систему вселенной и подражать Ему кое в чем своими творческими попытками, так как всякий дух в своей области – как бы малое божество. Вследствие этого духи способны вступать в некоторого рода общение с Богом, и Он стоит к ним в отношении не только изобретателя к своей машине (каков Бог по отношению к другим творениям), но и в отношении правителя к подданным и даже отца к детям… Совокупность всех духов должна составлять Град Божий, то есть самое совершенное, какое только возможно, государство под властью самого совершенного Монарха. Этот Град Божий, эта воистину Вселенская Монархия есть мир нравственный в мире естественном и представляет собой наиболее возвышенное и самое божественное из дел Божиих; в нем и состоит истинная слава Божия»42.
Все это, действительно, есть некоторое выражение принципов соборного единства, однако и ограниченность этого выражения прослеживается вполне ясно. Прежде всего, рационалистическая установка принуждает видеть в духовных субстанциях именно монады, то есть единицы, обособленные друг от друга. Каждая такая монада чувствует в бесконечно малых восприятиях весь мир43, но внутренняя ее жизнь закрыта для других монад наглухо44, взаимодействовать друг с другом они не способны никак, это принципиальная установка Лейбница. Даже то «идеальное влияние одной монады на другую, которое может происходить лишь при посредстве Бога», о котором он говорит, не является, по существу, действительным их взаимодействием. Речь идет только о предзаданной Богом «предустановленной гармонии» творения. Лейбниц в этом смысле нисколько не выходит за рамки привычного новоевропейского механицизма, просто он рассматривает монады как «бестелесные автоматы»45.
И даже величественная картина «Града Божьего», венчающая «монадологию», вряд ли может быть признана адекватным выражением принципов соборного единства. Здесь, безусловно, Лейбниц ближе всего подходит к теме соборности именно как онтологического принципа, ближе, может быть, чем кто бы то ни было в новоевропейской философии, но и в этом случае рационализм первичных установок препятствует мысли раскрыться в полную меру.
Все-таки, даже допуская для каждого «духа» (человеческого, надо полагать) «некоторого рода общение с Богом», Лейбниц не может говорить о единстве, об идеале обожения. Бог стоит к духам «в отношении правителя к подданным и даже отца к детям», но о Богочеловечестве Христа как об онтологической предпосылке и ориентире существования «Града Божьего» речи здесь не идет. Все-таки, даже сказав об отношении Бога к людям как «отца к детям», Лейбниц мыслит Град Божий именно как «самое совершенное, какое только возможно, государство под властью самого совершенного Монарха». И все-таки даже «духи» не могут иметь личных отношений между собой, то есть действительного личностного общения, когда (употребляя образно слова Псалтири) «бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» (Пс. 41, 8): когда из бездны одной личности в бездну другой течет поток любви и соединяет эти две бездны на их предельном, бездонном уровне. Даже «высшие монады, духи» остаются у Лейбница, по существу, такими же «бестелесными автоматами», как и «менее продвинутые» их аналоги.
Таким образом, монадология Лейбница представляет собой интересный пример выражения некоторых существенных черт соборной логики бытия средствами и в рамках той философии, которая о соборности мыслить по-настоящему оказалась неспособна. Еще ярче проявляется это обстоятельство на вершине развития европейской философской традиции, – в немецкой классической философии.
Весьма характерно то, что ни у Канта, ни у Фихте не удается найти идей, сколько-нибудь значимо связанных с темой соборного единства. Кантианство и фихтеанство оставляют сложное и сильное впечатление недюжинной интеллектуальной мощи пробивающей путь в тупиковом направлении, это взыскание цельности, всецелостности, единения и всеединства, которое однако с самого начала (точнее еще до начала собственно мысли) имеет в себе корень розни и разобщения. Разум, воля и чувство разобщены в человеке, люди разобщены между собой, человек и мир, человек и Бог разобщены на уровне исходных мировоззренческих установок. «Знать все как одно» возможно в этом случае только одним способом: свести ВСЕ к человеку, а человека – к разуму, и, таким образом, cogito делается теперь уже не просто исходным пунктом познания, той первой очевидностью, с которой Декарт предполагает начать возведение здания истинного знания, это cogito теперь – единственная реальность и последний пункт философской мысли.
У Декарта в свое время была еще одна очевидность, не менее очевидная, чем бытие моей собственной мысли: бытие Бога. Невозможность усомниться в том, что Бог есть, логическую абсурдность сомнения в этом Декарт показывает, как нам кажется, совершенно ясно. Однако, видимо, даже для того, чтобы чувствовать эту вполне разумную логику, необходимо сердце. И уж тем более, необходимо оно для признания очевидной правдивости Бога, утверждение которой только и может быть путем выхода из-под угрозы скептического солипсизма, благодаря которой я могу быть уверен в адекватности своих восприятий, в реальном существовании предмета этих восприятий.
«Чистый разум» Канта «чист» не только от опытных данных, он должен быть очищен и от примесей «сердечных движений», именно такая «очистка» лежит в основе кантовской «критической философии». Несмотря на огромную разницу во внешнем изложении идей у Канта и у Гегеля, у истоков и в конце немецкой классики, логика развития мысли Кант‑Фихте‑Шеллинг‑Гегель пряма и однозначна: разум (совершенно чистый от чего бы то ни было привходящего) все яснее и все глубже осмысляется как субъект‑субстанция всякого бытия. У Канта эта мысль еще в зародыше, а Гегель высказывает ее в абсолютной форме.
Попытки Шеллинга и Гегеля подойти к раскрытию некоего высшего «тождества», абсолютного единства как раз и составляют возможную почву для развития темы соборного единства. Общеизвестно, что старшие славянофилы, Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский, в своей философии вообще и в разработке концепции «цельного знания» в частности, часто апеллировали к имени Шеллинга46, удостаивая его таких наименований как «славный Шеллинг, один из гениальнейших умов не только нашего времени, но и всех времен»47. Нередко можно встретить и утверждения, что вся философская концепция славянофилов вместе с идеей «соборности» есть лишь пересказ достижений немецкой классики и Шеллинга в особенности.
Такие утверждения, мягко говоря, преувеличивают как степень действительной значимости Шеллинга для разработки философии соборности, так и зависимость русских мыслителей от этого немецкого мыслителя (без сомнения, великого и, по видимому, недостаточно, как и Фихте, оцененного на фоне Канта с Гегелем). Позволим себе привести достаточно обширную цитату из работы Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии».
«Последняя система Шеллинга не могла еще иметь настоящего действия на умы, потому что соединяет в себе две противуположные стороны, из которых одна несомненно истинная, а другая почти столько же несомненно ложная (курсив наш – А.А.): первая – отрицательная, показывающая несостоятельность рационального мышления; вторая– положительная, излагающая построение новой системы (и вот она-то ложная – А.А.)… Убедившись в ограниченности самомышления и в необходимости божественного откровения, хранящегося в предании, и вместе с тем в необходимости живой веры как высшей разумности и существенной стихии познавания, Шеллинг не обратился к христианству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и правильного развития своего разумного самосознания, ибо в основной глубине человеческого разума, в самой природе его заложена возможность сознания его коренных отношений к Богу… Но, стремясь к божественному откровению, где мог он найти его чистое выражение, соответствующее его разумной потребности веры? Быв от рождения протестантом, Шеллинг был, однако же, столько искренен и добросовестен в своих внутренних убеждениях, что не мог не видеть ограниченности протестантизма, отвергающего предание, которое хранилось в римской церкви, и часто выражал это воззрение свое… Но Шеллинг так же ясно видел и в римской церкви смешение предания истинного с неистинным, божественного с человеческим… Ему оставалось одно: собственными силами добывать и отыскивать из смешенного христианского предания то, что соответствовало его внутреннему понятию о христианской истине. Жалкая работа – сочинять себе веру!