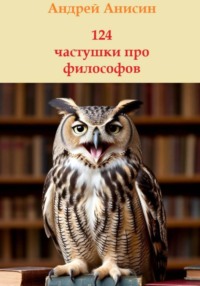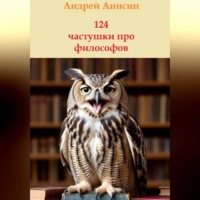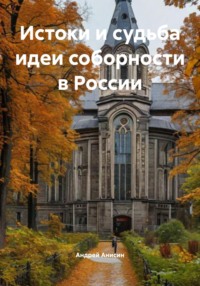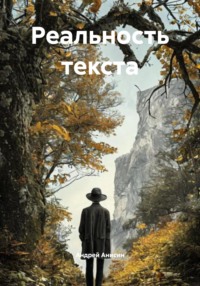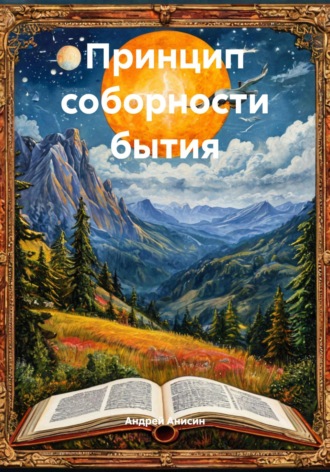
Полная версия
Принцип соборности бытия
Высшей мерой такого свободного акта любви является самопожертвование: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). В способности к самоотдаче в высшей форме проявляется как любовь, онтологическое единение с другим, так и свобода, самовластие, распоряжение собой, собственной жизнью, осуществляемое личностной, природно не детерминированной волей человека.
Соборность как свободное единство в любви оказывается, таким образом, неразрывно связана также и с темой жертвы. Церковная соборность, как мы помним, онтологически обеспечивается именно Евхаристической Жертвой, сущность которой, во-первых, выражается в возглашении: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся», а во-вторых, заключается в физически-наглядном и в то же время мистически-таинственном причащении людей Телу и Крови Христовым, благодаря чему каждый из них становится членом (то есть, органом) Церкви, мистического Тела Христова, существующего в то же время и физически-наглядно в виде церковной общности. На Жертве Христовой утверждена церковная соборность и осуществляется она через жертвенную любовь членов.
Остановимся подробнее на феноменологии жертвы, для чего потребуется опять-таки обратиться к религиозной проблематике. Та родная стихия, в которой феномен жертвы раскрывает свою феноменологию, есть, конечно, религиозная жизнь. Только что были уже намечены две основные смысловые линии этой феноменологии. Жертва, как едва ли не обязательный элемент всякой религиозной жизни, предполагает, во-первых, жертвоприношение, то есть принесение чего-то важного, драгоценного на алтарь и вознесение его Богу, на что указывает греческое слово «жертва», , происходящее от – дымить, воскурять (а первоначально вообще дышать, дуть, и от этого же корня – дух, душа, жизнь). Сжигание, превращение возносимого в дым, восходящий вверх, наилучшим образом символизировало вознесение жертвы к Небу, к Богу, священная символика огня обусловлена именно этим. Итак, во-первых, жертва есть принесение благодарения Богу.
Но и во-вторых, жертва есть приобщение к Богу, по крайней мере, в ней присутствует жажда такого приобщения и она есть попытка приобщиться к Богу. Здесь мы можем опереться в частности на славянские корни этого слова: «Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову» (Пс. 115, 8). Жертву именно жрут, жертва этимологически, собственно, и есть жратва. Со временем в русском языке эти слова снизили свой смысл до грубости, они уже сделались совершенно неуместными для выражения сколько-нибудь высоких смыслов, однако именно эти слова способны указать на важный религиозный смысл жертвы и помочь раскрыть суть жертвенности как необходимого основания соборного единства.
В качестве явления религиозной жизни жертва уходит корнями в человеческую первобытность. Первые исторические факты, которые проясняют для нас происхождение и смысл жертвоприношения, относятся к верхнему палеолиту. Наскальные росписи в пещерах, относящиеся к этому периоду и являющиеся, судя по всему, священными изображениями, увековечивают именно жертвоприношение. Крупные мощные животные, тщательно нарисованные древними людьми, символизировали Бога и являлись жертвенными, а вкушение их мяса символически соединяло с Богом. В истории религиозной жизни эти два аспекта жертвоприношения, видимо, всегда существовали неразрывно: жертва хвалы и благодарения являлась одновременно и жертвой приобщения каждого человека к Богу и всех людей друг к другу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.