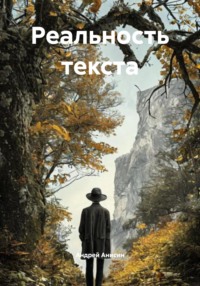Полная версия
Принцип соборности бытия
Для целей проводимого исследования важно выяснить отношение древнегреческой атомистики к проблеме единства мира. Первым актом мысли в этом направлении является отрицание единства вообще, как такового: утверждаются отдельные неделимые частицы, случайным образом соединенные между собой. Совершенно случайна, ни от чего не зависит форма атома, совершенно случайно его движение, совершенно случайны сочетания их и фигуры, ими образуемые. Материализм с самого своего начала, еще в виде тенденции и зачатка, уже склоняется в сторону «обожания случая», как его характеризовал Н.И. Пирогов. Однако мириться с превращением упорядоченного, гармоничного Космоса в беспорядочное случайное нагромождение атомов не возможно, пожалуй, и для современного ума, тем более, невозможно было это для древнегреческого сознания.
Определенным образом единство мира постепенно начинает утверждаться и в рамках атомистики. Этот образ единства является, по существу, оборотной стороной того же движения мысли, которое породило элеатское неподвижное, сплошное, внутренне неразличимое, неделимое и неизменное Бытие. Элеаты и атомисты, несмотря на всю внешнюю противоположность в понимании «бытия по истине», выражают одно и то же мировоззрение. Не случайно уже процитированный исследователь пишет: «Левкипп построил систему атомистического материализма чисто умозрительным путем, отправляясь от диалектики Парменида и Зенона»30.
Единство мира в атомистике мыслится не как универсальная Сущность, а как универсальная связь уникальных и индивидуальных замкнутых на себя элементарных сущностей, как их соподчиненность универсальной детерминации. Радикальный онтологический плюрализм, утверждение никак не связанных между собой самодостаточных единиц бытия очень скоро оборачивается (и уже у Демокрита оборачивается) тотальным детерминизмом, – философской концептуализацией древнегреческой Судьбы.
В дальнейшей европейской философии воспроизводится в разных видах эта дилемма холизма и плюрализма: по прежнему «мудрость в том, чтобы знать все как одно», и по прежнему необходимо понять, почему существует не только «Одно», но и «Все». И по прежнему «лучшие люди одно предпочитают всему: вечную славу – бренным вещам, а большинство обжирается как скоты»31, – развитие философской мысли идет именно в поисках Единого.
Философия Платона, в качестве начала классической европейской философии, в качестве ее архетипа, демонстрирует именно такое движение. Начиная с поиска некоего «истинного бытия» вещей, того смыслообраза ( – вид), который бы существенно определял их зримое «наличное бытие», Платон приходит и к утверждению иерархии идей, и к понятию о необходимом их генетическом единстве, и к созерцанию Единого как абсолютного основания всякого бытия и единственного «истинного Бытия».
Несомненно то, что коренной интуицией древнегреческой философии, существенным образом определяющей основания и логику движения мысли древнегреческих философов, является восприятие мира «в виде чувственно-материального Космоса, движимого космической душой, управляемого тоже космическим умом и создаваемого сверхдушевным и сверхумственным первоединством»32. Этот Космос, содержащий в себе многоразличные стихии, оживотворяемый бесчисленными богами, представляет собой, тем не менее, единство. Стихии – это не самостоятельные субстанции мира, это именно стихи в поэме, немыслимые обособленно от целостной живой взаимопринадлежности друг другу, они не существуют в каком-то «готовом виде» до своей связи друг с другом, они возникают и живут – как и строчки стихотворения – заранее предполагая существование друг друга в качестве основания собственного бытия.
То же самое можно, видимо, сказать и о древнегреческих богах. Язычество вообще, если под этим словом мыслить так называемые «естественные религии», имеет своим истоком интуитивно-мистическое переживание соборного единства мира. Существование «великого Пана» нисколько не мешает наличию своего покровителя у каждой рощицы и души у каждого дерева в ней, – эти духовные сущности вовсе не стесняют друг друга, пересекаясь и частично совмещаясь в управляемых ими существах. Сознание, находящееся на этой фазе «детской» естественной религиозности, нисколько не смущается тем, что журчание ручейка является одновременно проявлением и конкретной нимфы с конкретным именем, живущей тут, и «духа воды» вообще, и покровителя данной местности, и души мира в целом.
Необходимо, однако, отметить, что такое мистическое переживание всеобщего взаимопроникновения в согласном единстве жизни Единого‑Целого значительно ослабляет чувство личности и реальность свободы. Эти понятия, конечно, присутствуют определенным образом в древнегреческой культуре как на уровне простонародной естественной религиозности, так и на уровне высоких форм культуры, однако именно в сфере философской мысли, призванной максимально глубоко осмыслять мировоззренческие основания жизни, эти понятия оказываются лишены своей настоящей глубины. Здесь необходимо некоторое «теоретическое отступление».
Древний грек по своей природе был, конечно, человеком в полной мере. Человеческая же природа включает в себя тот духовный уровень, который не позволяет говорить о человеке как о продукте натурально-физической, то есть естественной, внечеловеческой природы. Употребляя выражение «естественная религиозность», необходимо помнить, что речь идет о «естественности» именно человеческого естества, а не о природной естественности: с точки зрения той естественности, которая выражается в понятии «законы природы», религиозность, несомненно, противоестественна. Эта противоестественность может быть объяснена только как сверхъестественность, как дар свыше и проявление образа и подобия Божия. Возглавляясь духом, как таким сверхъестественным даром, человеческое естество уже никогда не способно жить вне понятий личности и свободы, жить, будучи полностью, то есть по-животному растворенным в ритмах природного бытия.
Однако человек – говоря уже по существу, а не по природе, – не есть статическая данность чего бы то ни было, хоть бы и духа, – человек есть динамическая задача движения к Богу, движения, возможного только через восприятие в свою жизнь Божественной благодати. Именно в этом смысле началом новой истории человечества явился Христос, открывающий для человека возможность жизни богочеловеческой. Человечество и до Христа питалось в духовном смысле так или иначе струями Божественной благодати, но опираться человек при этом мог только на свою природу – богозданную и одухотворенную свыше, но поврежденную грехом и грехом отделенную от природы Божественной. Именно в этом смысле можно говорить о «естественной религиозности» человека. Именно поэтому дохристианская духовная культура целиком представляет собой предчувствие и предвосхищение того опыта, который в полной мере открывается в христианстве. Античная философия есть с этой точки зрения предвосхищение той философской мысли, которая возможна на основании христианского бытийного опыта.
Древние греки, как и вообще люди дохристианских культур имели, конечно, определенное чувство как собственной личности, так и чувство личностного начала в сверхчувственной, то есть мистической и ноуменальной сфере. Однако в себя ли обращаясь, в мир ли глядя, к идеальным сущностям ли воспаряя, хоть мистически, хоть эмпирически, хоть умозрительно, – человек здесь оказывается не способен еще довести это свое смутное чувство до ясного понятия бездонной личности и таинственной свободы, так, чтобы мыслить и жить на основе этой бездны и тайны. По-настоящему темы личности и свободы открываются (во всей своей бездонности) во Христе. В силу этого «соборность» древнегреческого Космоса имеет еще характер смутного предчувствия настоящего соборного единства. Древнегреческая философия интересна именно как свидетельство того, о чем говорил Тертуллиан: человеческая душа – «христианка по природе» в том смысле, что хотя христианами не рождаются, а становятся через рождение свыше, но этого-то рождения жаждет душа по своей естественной потребности.
Единство греческого Космоса обнаруживает достаточно зримые соборности, больше, правда на уровне непосредственного религиозного чувства, чем при осмыслении этого единства философской мыслью. Мир – единый живой организм, он есть «неслышимая нами гармония поющих космических сфер», однако это его единство при последовательном осмыслении раскрывается как логика органической тотальности, оно оборачивается обезличенными ритмами единого космического организма, завершенность («телиозис») которого в конечный результат («телос») есть чистая телесность Тела.
Еще один принципиально важный момент. Квазисоборность античного Космоса хоть и представляет собой живое динамическое единство живых космических сил, согласную гармонию и поэзию стихий, однако это единство лишено «вертикали», оно знает «живые отношения» только внутри себя, отношения онтологически равных «органов организма». При этом каждый из «органов» частичен и неполон уже по определению, нуждается в других для поддержания своего бытия, не обладает свойствами личности. Единство Космоса – это единство «по нужде», это слепое и безличное единство.
Естественным процессом с этой точки зрения является возникновение и развитие логики «всеединства» с пантеистическим уклоном, которая рассматривает мир как несовершенное и сложное проявление во множественных вещах едино-простого совершенного Абсолюта. Все, что есть, – есть на самом деле одно Единое, все из него вытекает. Все, что есть, воспроизводит частичным и абстрактным образом Единое Истинное Бытие. Единое является и началом, и концом, – истоком всего и целью всего. Такова логика неоплатонизма, такова философия Николая Кузанского, таково учение Спинозы, такова же, в конечном счете, и система Гегеля.
Однако, прежде чем говорить о философских учениях прямо примыкающих и по времени, и по идейному смыслу к философской разработке темы соборности, вернемся к начатой характеристике оснований европейской философской традиции. То интуитивное предвосхищение принципов соборного единства, которое было отмечено в античной космологии, является, конечно, определяющим для философской мысли античности, но не единственным. Конечно, античная философия в целом космоцентрична, а потому осмысление всякой иной предметности неизбежно совершается через призму космологических идей. И все-таки можно выделить еще одно направление, на котором «природная христианка душа» выражает средствами философии свою потребность основать жизнь на принципах соборного единства.
Таким направлением мысли являются поиски некой «духовной общности», «духовного братства», связывающего людей не по принципу кровного родства, житейской выгоды или перед лицом опасности, связывающего неким «единством духа» и не «по нужде», а «по любви». Как и вышеупомянутая «естественная религиозность», порождающая интуитивное чувство соборности всего сущего, потребность в «духовном братстве» должна быть, видимо, отнесена к неотъемлемым свойствам той «природы человека», которая, даже именуясь «природой», нисколько не теряет своей сверхприродной сущности. Прежде всего, эта потребность проявляется, конечно, в религиозной жизни, соединяющей людей на основе общей веры и общего служения, то есть в рамках той же «естественной религиозности». Однако, оставаясь в этих рамках, потребность духовного единения не может найти себе настоящего развития, здесь она еще слишком явно совпадает с кровными и бытовыми узами, заслоняется ими. Слишком прямое переживание природно-родового единства мира оставляет мало места свободному движению духа. Философское сознание древних греков уже не склонно видеть в мире всеобщую одушевленность существ, философия уходит от наивности мифа, и рефлексивно дистанцирует человека от природных ритмов. Мир перестает ощущаться как хор живых голосов, но делается возможным и даже насущно необходимым поиск чисто духовного созвучия с другими людьми.
Философия в Греции, собственно и начинается с образования таких духовных сообществ. Первый мыслитель, которого называют философом, Фалес Милетский, является одновременно и последним из легендарных греческих «мудрецов». И вот тут очень показательно, что те «мудрецы» никаких «школ» вокруг себя не образовали, – и именно потому, что их мудрость была традиционна и безлична. Не образовывали «школ» и «духовных сообществ» многочисленные поэты, прямо полагающиеся в своем творчестве на фантазию Фалес же, – первый еще только отчасти взявшийся философствовать, – сразу образовал вокруг себя духовное сообщество учеников‑единомышленников. Именно потому, что философия есть свободный личный поиск духовной истины, такие сообщества стали возможны. Те же процессы, что и в Греции, мы видим несколько раньше в Индии при переходе от «естественной религиозности» Вед к религиозно-философским исканиям Упанишад и последующих многочисленных духовных направлений и школ.
Пифагорейская школа еще во многом сохраняет черты религиозно-мистического тайного союза для посвященных, другие философские школы напротив – открыты и часто достаточно аморфны, но так или иначе они все явились некоторым выражением соборных принципов общности на социальном уровне. При этом духовное единство единомышленников стало не только формой существования философии, но и в определенной мере предметом философской мысли. О высоком смысле «философской дружбы» говорят и Платон, и Эпикур, хотя и следует отметить неизбежный элемент избирательности и элитарности, искажающий суть соборного единства. Речь идет не только и не столько о «количественном» аспекте, но прежде всего, о том, что дух такой «дружбы» часто качественно отличается от духа соборности, от того, чтобы чувствовать себя «братом всех людей, всечеловеком»33.
В сфере социально-философской мысли античности определенное предвосхищение идей соборного единства можно видеть в разработке Платоном и Аристотелем, а затем Полибием философской теории государства. Уже в платоновской теории «идеального государства» ясно выражается видение государства как особой и высшей формы единства людей. Отметим в связи с этим ряд важных для нашей темы моментов.
Во-первых, нельзя не видеть, что теория государства имеет у Платона ясно выраженную нравственную основу. Свои рассуждения о государстве собеседники в одноименном диалоге начинают именно с обсуждения темы справедливости, притом в чисто нравственном аспекте (например, рассматривая вопрос: смог бы кто удержаться от зла, имея перстень-невидимку?) и именно в осуществлении принципа справедливости видят они смысл государства. Единство, достигаемое в платоновском «идеальном государстве», несмотря на утилитарно-практическую форму изложения идей, несмотря даже на планы поддерживать порядок в нем при помощи идеологических мифов34, тем не менее, представляет собой явление духовно-нравственного порядка.
Далее, во-вторых, интересна в этой связи определенная двойственность в раскрытии отношения государства к принципу естественности и к природе человека. С одной стороны, Платон, как затем и Аристотель, определяющий человека как «животное политическое», ясно указывают на то, что государственных форм жизни требует сама природа человека: «политология» Платона прямо вытекает из его «антропологии», деградация форм государства есть следствие страстей человеческой души, а учение об идеальном государстве основывается на концепции трех частей души и их должной иерархии35. Но с другой стороны, и это ясно прослеживается уже у Платона, государство рассматривается не как естественная форма жизни, а именно как человеческое установление. Аристотель же вполне концептуально различает «естественные» и «политические» сообщества: если в первых власть осуществляется над несвободными (рабы, женщины и дети), то во вторых – над свободными гражданами, подчинение которых властным распоряжениям осуществляется, таким образом, свободно. Политическое единство является свободным единством свободных граждан, эта свобода есть некое требование, вытекающее из человеческой природы, и в этом смысле она естественна, но она не делается реальной, не вытекает из человеческой природы сама собой, и в этом-то смысле должна быть устроена человеком.
Античные принципы социального единства тяготеют к органицизму, определяясь в этом общей космоцентрической установкой древнегреческой культуры. Именно Космос как живой мировой организм является архетипом всего греческого мировоззрения. В то же время вполне ясно выражается в античной культуре и тема индивидуальной свободы. Это, конечно, еще не совсем тот масштаб темы свободы, который делает ее одной из центральных в западноевропейской мысли, но именно на свободном подчинении основывается политическое сообщество, именно в наличии этой политической свободы греки видят свое превосходство перед варварами, обреченными на деспотию.
Задачу устроения жизни так, «чтобы… каждый представлял бы собою единство, а не множество», античность вполне ясно ставит, ожидание того, что при этом «и все государство в целом станет единым, а не множественным», вполне ясно высказывается, но указать онтологические основания для решения этой задачи и исполнения этого ожидания античность оказывается неспособна. Античная философия, таким образом, демонстрирует скорее еще только подступы к проблеме соборного единства, чем позитивное раскрытие принципов этого единства. И все-таки, конечно, значимость этой первой постановки проблем социальной философии чрезвычайно велика. Нигде в иных мировоззренческих парадигмах ни до того, ни после проблемы социальной философии фактически не ставились. Социальная реальность нигде больше не становилась самостоятельным предметом философской мысли. Даже в Древнем Китае, где социальная обусловленность философии была более чем актуальна36 , понятие собственно социальной реальности в мышлении просто отсутствует.
Такое утверждение, конечно, звучит слишком смело, возражения против него напрашиваются сами собой. Чтобы предупредить эти возражения, необходимо яснее определить, что же имеется в виду под социальной реальностью. Прежде всего, это понятие предполагает, что общественная жизнь имеет некий особый онтологический статус, то есть она, конечно, не может быть обособлена вовсе от общей принципиальной онтологии, но бытие общества есть некий иной, особый род бытия, чем бытие мира или отдельного человека. Понятие социальной реальности, таким образом, предполагает и наличие неких отношений между обществом и миром, обществом и отдельным человеком, обществом и Абсолютом даже, – отношений, которые означают онтологическую сопоставимость сторон. Особый онтологический статус общественной жизни выражается, во-первых, в том, что общество выводится из-под власти естественных законов, обретает автономию относительно природы (оно отныне есть «автономон» – нечто, управляемое своими собственными законами). А во-вторых, социальная реальность мыслится как результат человеческой не только бессознательной, но и сознательной, то есть творческой деятельности, – эта реальность не вытекает сама собой из природы (мира ли, человека ли), она выстраивается людьми.
Такого понятия социальной реальности, такого взгляда на общество невозможно найти нигде за рамками европейской мыслительной традиции. Впрочем, даже и в Европе далеко не все мыслители так смотрели на общество. В античной философии такой подход к пониманию общественной жизни еще только формируется. Если оценивать, что древними не сделано, – конца упрекам не будет, но если посмотреть, что им удалось сделать, – нужно просто склонить голову перед величием античной мысли.
Менее всего можно видеть начатков философии соборности в антропологических построениях античных философов. По крайней мере, гораздо меньше, чем в рассмотренной выше космологической и социально-философской проблематике. Единственный мотив созвучный теме соборного единства – гармония души и тела, их принципиальное различие и неразрывное единство. Однако этот мотив вовсе не столь последовательно выражен в Древней Греции, очень ясно и пожалуй даже чаще звучит противоположная мысль, и у Платона особенно, – мысль о вражде души и тела, человек в качестве единства души и тела мыслится как неудачная форма бытия, – не гармония, а разлад заключен в этом единстве.
Платон устами Сократа ясно определяет: «Мы никогда не сможем в достаточной мере достигнуть того, к чему стремимся и что мы называем истиной, пока у нас будет тело и пока к душе будет примешано это зло. И в самом деле, тело создает для нас бесчисленные препятствия из-за необходимости питать его; а если, сверх того, постигнут нас еще какие-либо болезни, то они мешают нам стремиться к сущему. Тело наполняет нас вожделениями, страхами, всякого рода призраками, пустяками. И правильно говорят, что, действительно, из-за тела нам никогда не удается ни о чем даже поразмыслить. Только тело и присущие ему страсти порождают войны, восстания, бои; ибо все войны ведутся из-за приобретения денег, а деньги мы вынуждены приобретать ради тела, рабствуя пред уходом за ним»37.
Такова общая парадигма античного идеализма, – борьба души с телом «за свободу и независимость»: тело вообще не есть жизнь с этой точки зрения, , по многозначительному каламбуру Платона, есть , могила, надгробие над жизнью. В античном же материализме такая борьба отсутствует, но означает этот факт не мир, а капитуляцию перед телесными чувствами и потребностями «рабствуя пред уходом за ним». Античный идеализм не способен обеспечить жизненное единство той иерархии человеческой природы, которую он устанавливает. Античный материализм не желает признавать сверхприродную иерархию в человеке, сводя душу к обслуживанию тела. Это сведение не носит еще столь грубого характера, как в материализме XVIII века, но именно удовлетворенность телесных потребностей и душевное равновесие признаются необходимыми и вполне достаточными целями жизни человека.
Особенно следует отметить идею «микрокосмичности» человека. В ней часто видят свидетельство высокой оценки греками места человека в мире и признание чуть ли не равного онтологического статуса человека и мира38. На самом деле однако именование человека «микрокосмом» подчеркивает вовсе не величие человека (идея, которой в античности, по существу, вообще не было), и не столько его совершенство (хотя этот момент в какой-то мере присутствует), сколько всецелую принадлежность человека «большому» Космосу, всецелую определенность человека ритмами жизни этого Космоса.
Человек есть «микрокосм» в «макрокосме» в том же смысле, в каком клетка организма представляет собой тоже маленький, но целостный организм. В определенном смысле это так и есть: клетка организма – тоже организм внутри себя, и чем глубже цитология проникает во внутреннюю жизнь клетки, тем менее можно мыслить ее как клетку (наименование, призванное при своем введении в научный оборот подчеркнуть принципиальную простоту, элементарность и унифицированность того, из чего «как из детской мозаики» складывается организм). Не стоит, однако, забывать, что клетка организма не способна существовать в качестве одноклеточного организма, хоть она и образует некий организм «в себе», но живет не «для себя», а для того Целого, в которое она входит в качестве клетки. То же и человек в мире.
Выше были рассмотрены античные предпосылки разработки идеи соборного единства. Вторым основанием европейской философской традиции, несомненно, является библейское мировоззрение. Его определяющее влияние реализовывалось главным образом через христианство, однако не только новозаветное богословие Церкви, рассмотренное в предыдущем параграфе, имеет значение для развития идеи соборности, но и более ранние и – если можно так выразиться – более основополагающие установки библейского, еще даже и ветхозаветного мировоззрения.
Прежде всего, надо, конечно, сказать о том, как присутствует в рамках библейского мировоззрения тема Абсолюта. Здесь Абсолют есть не «что», а «Кто», речь идет не о безличных мировых «субстанциях» или абсолютно запредельных, но столь же безличных духовных «сущностях», речь идет о Боге-Личности. Бог – не «сущность», а Сущий. Личностный способ бытия утверждается, таким образом, на предельном онтологическом уровне. И разделение, и единство, и вражда, и любовь получают здесь статус не безличных «мировых сил», а личностных отношений на всех уровнях онтологии.