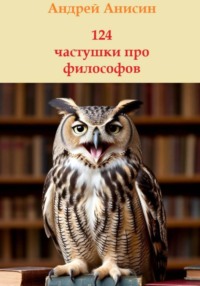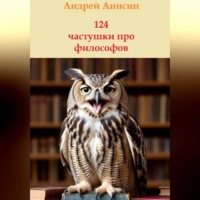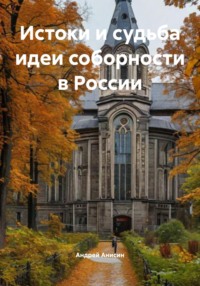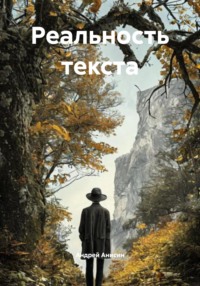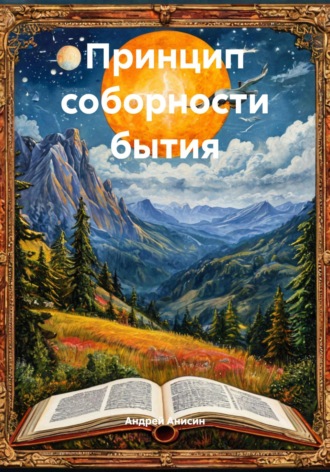
Полная версия
Принцип соборности бытия
Здесь руководствовался он не одними умозрительными соображениями, которых недостаточность так ясно сознавал, но кроме Священного писания искал опоры для мысли в действительном богосознании всего человечества, во сколько оно сохраняло предание первобытного божественного откровения человеку. В мифологии древних народов находил он следы хотя искаженного, но не утраченного откровения… Такой взгляд на историю человеческих верований мог бы быть весьма питателен для христианской мысли, если бы она предварительно уже стояла на твердом основании. Но неопределенность предварительного убеждения и вместе неопределенность внутреннего значения мифологии, подлежащих более или менее произвольному толкованию изыскателя, были причиною, что Шеллингова христианская философия явилась и не христианскою и не философией (курсив наш – А.А.): от христианства отличалась она самыми главными догматами, от философии – самым способом познавания»48.
Для славянофилов в философии Шеллинга, действительно, была значима, прежде всего, отрицательная, как выражается Киреевский, сторона, которая говорила об «ограниченности самомышления и необходимости божественного откровения, хранящегося в предании, и вместе с тем необходимости живой веры как высшей разумности и существенной стихии познавания». Именно эта сторона философской деятельности Шеллинга снискала высокие похвалы русских мыслителей, положительная же часть учения Шеллинга, его проект «новой системы» оценивались славянофилами куда как скромнее.
Главным образом, Шеллинг имел для Хомякова и Киреевского значение свидетеля, который изнутри западной философии, с самого «переднего ее края» критикует ограниченность западной мыслительной традиции, дает основания для вынесения некоторого «диагноза» новоевропейскому рационализму49 и ставит задачу перехода от чисто логической и потому отрицательной философии к положительному, цельному знанию. Философия Шеллинга должна была, по мысли славянофилов стать «самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему основным началам древнерусской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума»50.
Даже при столь беглом обзоре тех предпосылок разработки идей соборного единства, которые можно обнаружить в западноевропейской философии, необходимо подробнее остановиться на философии Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, как на том высшем пункте, к которому традиция европейского «платонизма» приводит мысль и выше которого, видимо, уже подняться не может. Вся без исключения послегегелевская философия с большим или меньшим успехом отталкивается от этого мыслителя: и в смысле опоры, и в смысле ухода.
Единство мира, по Гегелю, – это диалектический разум, Абсолютная Идея в качестве субъект‑субстанции мира. Только ценою полной «дематериализации» первоначала Гегелю удается мыслить порожденный им мир в реальном многообразии и движении, мыслить мир живым единством. Ибо если первоначальное и сущностное единство мира мыслится хоть сколько-нибудь вещественным образом (в виде, например, спинозовской Субстанции), то неотвратимой перспективой делается Бытие Парменида, обреченное «быть целокупным и неподвижным», которое «закончено со всех сторон, похожее на глыбу совершенно-круглого Шара, везде [= «в каждой точке»] равносильное от центра, ибо нет нужды, чтобы вот тут его было больше или меньше, чем вот там»51. Первоначало вещественным «немножко» быть не может, сочетанием формы и материи оно быть не может, – будучи причастным к материальности, оно совершенно уничтожает в себе всякую возможность формы. А потому только чистой формой должно оно быть, «формой всех форм», по выражению схоластики.
«Форма всех форм» – это и есть логика. Единству мира в системе Гегеля нисколько не мешает актуальная множественность вещей, напротив, именно эта множественность обеспечивает логическое единство мира. Множественность здесь становится не только преходящим моментом движения Единого первоначала, как мы видим это, например, в неоплатонизме, она способна выступать и как адекватное выражение Единого.
В традиционной логике всеединства у неоплатоников и гностиков всякое различие и множественность рассматривались как результат деградации Всеединого Первоначала, как его ниспадение (или по крайней мере, нисхождение), огрубление и даже некая «утрата Первоединством Самого Себя». Восхождение же обратно к Единому мыслилось как стирание различий, упразднение всякой отдельности, как растворение всего в Едином, так, чтобы «Бог во всем и все в Боге», так что ничего уже нет кроме Одного Единого.
В системе Гегеля многообразие всего возникает как самораскрытие и самопознание Абсолютной Идеи, началом как логически, так и исторически является Единственное Единое. Но при этом возникновение материального мира – в отличие от неоплатонизма – не есть «падение» Идеи в омертвелую разрозненность, оно является началом становления в ином, которое учиняет над собою Идея. И это становление заключается не в слиянии всего в одно, а в прогрессе внутренней связанности мира, в прогрессе его разумности. Окончательное обретение Идеей себя самой в высших формах человеческого духа не есть «воссоединение Атмана с Брахманом», возвращение некогда оторвавшейся капельки в океан, ее породивший. В этом своем высшем самораскрытии Абсолютная Идея не поглощает множественности и не стирает различий, но эта множественность во всех наличных различиях делается выражением диалектической логики Абсолютной Идеи (вернее, может быть, той диалектической логики, которая и есть сама Абсолютная Идея).
Гегелевская «идеальность для‑себя‑бытия как тотальность» предполагает реальную множественность проявлений бытия, с одной стороны, и реальное единство этого бытия, с другой. Эта философия дает возможность понять мир как бесконечно развивающийся процесс, с одной стороны, и как всеобъемлющий неизменный принцип. Многое эта философия позволяет, но только так и не может выйти за рамки общей ограниченности западноевропейской философии. Эта ограниченность касается не просто некоторых тем, она относится к наиболее важным и глубоким для философской мысли темам. Дилемму единства и множественности Гегеля удается преодолеть весьма успешно, но есть и другая, более значимая дилемма, переводящая дискурс на более глубокий уровень. Западный рационализм, даже на высшем своем уровне, в форме диалектического разума, оказывается неспособен постичь глубину темы личности, а также неразрывно связанную с нею тему свободы.
Вот как очень характерно пишет Гегель о логической экспликации (в отличие от историко-философского анализа становления) истинной философии: «Свободная и истинная мысль конкретна в себе, и, таким образом, она есть некая идея, а в своей завершенной всеобщности она есть идея как таковая, или абсолютное. Наука о ней есть существенно система, потому что истинное как конкретное есть развертывающееся в самом себе и сохраняющее себя единство, т.е. тотальность, и лишь посредством различия и определения различий может существовать их необходимость и свобода целого»52.
Только одну свободу знает Гегель: свободу целого; только одно остается на долю различающихся моментов этого целого: необходимость; только одна существует на их уровне свобода: осознанная необходимость. Гегель, конечно, уходит от того прямого и жесткого холистического детерминизма, который демонстрирует, например, Спиноза, он весьма глубоко понимает реальность свободы, раскрывая смысл ее – на феноменологическом, сказали бы мы уровне – в своей «философии духа». Однако это раскрытие, проводимое на тяжелом, онтологически основательном, по-гегелевски весомом языке, усматривает единственное онтологическое основание действительной свободы индивида во всеобщем диалектическом разуме. Более того, вообще никакой собственной действительной свободы у индивида и быть не может: та действительная свобода, которой я обладаю, есть на самом деле свобода целого. Иллюзия же моей независимости от целого, моей самобытности остается всего лишь иллюзией, – абстрактной и глупой.
Действительная свобода, которая есть в мире, принадлежит диалектическому Мировому Разуму, Абсолютной Идее, она и только она есть действительный субъект всякого процесса, утверждающий себя во множестве вещей и процессов, но представляющий собой их существенное единство, «душу» всякой вещи и действительность всякого процесса. Когда, например, Гегель, описывая предпоследнюю ступень восхождения Абсолютного Духа к своей полноте, «религию откровения», высказывает следующие мысли: «Бог есть Бог лишь постольку, поскольку Он знает Самого Себя; Его знание Самого Себя есть, далее, Его самосознание в человеке, а знание человека о Боге развивается, далее, до знания себя человеком в Боге»53, – в этом можно видеть не только сведение Бога к понятийному самосознанию человека, но и сведение человеческого самосознания и самоопределения к самоопределению Бога.
Иллюзия господственного положения человека в мире, обретаемого вследствие «божественности» человеческого разума (то есть окончательного адекватного самораскрытия Абсолютной Идеи в человеческой духовной деятельности), оборачивается полным упразднением свободной субъектности человека, реальной его самобытности, которая сводится к диалектике (внутреннему диалогу) Мирового Духа. Иногда Гегель говорит о человеке так, как если бы тот имел свои собственные интересы, свою собственную жизнь, как если бы он находился в свободных отношениях с мировым целым. Однако нельзя не видеть, что такая форма речи не отражает действительного положения вещей.
Если, например, Гегель говорит о «хитрости исторического разума», который добивается своих предзаданных диалектической логикой целей, создавая у исторических деятелей (народных масс в том числе), эти цели реализующих, иллюзию, что они действуют в соответствии со своими интересами, то слово «хитрость» – не более, чем поэтическая фигура речи. Мировой Разум ничего не скрывает, никого не обманывает, он производит логически необходимые предпосылки логически необходимых следствий, если же предпосылки оказываются непохожи на следствия, то тут нет «хитрости», тут только «логика самодвижения понятия».
И все-таки именно философия Гегеля является в рамках западноевропейской философской традиции одной из важнейших опор для разработки идей соборного единства в качестве философского принципа. Прежде всего, – и это очевидно, – большое значение имеет в этом смысле гегелевская диалектика. Говоря о диалектике, необходимо, прежде всего, обратиться к тому его первоначальному смыслу, который обеспечил этому понятию долгую жизнь и богатый философский потенциал. Подробная и глубокая разработка принципов диалектики в различных направлениях современной философии может быть критически осмыслена и развита только при условии опоры на этот коренной смысл
В собственном смысле слова «диалектика» есть «искусство вести беседу», умение разговаривать так, чтобы получался диалог, чтобы мысль каждого из собеседников находила бы опору и оппозицию в мысли другого. Диалектика есть умение двигаться мыслью в беседе, – умение слышать, спрашивать и отвечать таким образом, чтобы открывались новые горизонты интеллектуального видения. Говорят, что «в споре рождается истина». Это не совсем верно: во-первых, не в споре, а во-вторых, не рождается. Диалектика в своем исходном смысле имела в виду такой способ взаимодействия мыслящих людей, который по-русски вернее обозначается словом беседа, а не спор: сократический диалог, как классический образец античной диалектики, яркий тому пример, Сократ не спорит, он беседует. В русском слове спор силен смысл противостояния, этимологически «спор» происходит от корня «переть, упираться», как один из древнерусских вариантов словарь М.Р. Фасмера приводит «соупор»54. В таком споре ничего хорошего родиться (да и вообще произойти) не может: противоборство не плодотворит, плодотворна только любовь. В этом случае приходится не согласиться с Гераклитом, утверждающим, что «война («полемос» – мужского рода по-гречески) – отец всего». Диалектическая беседа – это не противостояние, а, скорее, совместное предстояние предмету. И конечно, истина в беседе не рождается, она в диалектическом движении мысли открывается нам, беседа есть способ приблизиться к ней.
Как известно, Гегель придал слову диалектика более фундаментальный, онтологический смысл, понимая ее уже не как некий человеческий навык, а как принцип существования и движения мира. Диалектика интеллектуального постижения истины является по Гегелю воспроизведением объективной диалектики Абсолютной Идеи как субъект‑субстанции мира. Одним из влиятельных продолжений философской разработки диалектики явилось ее материалистическое переосмысление, совершенное К. Марксом и развитое последующим марксизмом.
Однако именно если иметь в виду исходный и основополагающий смысл диалектики, ее имманентный конституирующий принцип, то не может не возникнуть сомнение в обоснованности произведенного Марксом «переворачивания диалектики с головы на ноги». Под вопрос необходимо поставить возможность материалистической диалектики как таковой. Материализм, конечно, вообще живет за счет тех идей, которые ему удается перенести на свою почву из идеализма, и многие философские идеи к такому перенесению более или менее способны, но только не эта! Законы диалектики настолько же вправе распространяться на материю, насколько взаимодействие идей может быть подчинено закону гравитации.
Когда Гегель говорит об объективной диалектике, когда он даже и материальную сферу бытия, природу мыслит как диалектическое противоречие и диалектическое развитие, в этом нет ничего странного или непоследовательного: с точки зрения Гегеля весь мир есть живая разумность, диалектическое собеседование мирового разума. Когда Гегель противоречие считает источником развития, это очень понятно: противоречие внутри разума побуждает разум к движению, к решению противоречия, а это решение, будучи действительным самодвижением разума, не может не вести разум к новому, более высокому уровню проблемности. Всякое внутреннее противоречие является для разума именно проблемой, – в этом источник развития. Греческое «пробулевма» означает «предварительное решение», а в практике афинской демократии – «предварительное постановление Ареопага, предложение или законопроект не имеющий еще силы закона, но нуждающийся в обсуждении народным собранием». В качестве такого «предварительного проекта» и одновременно «запроса, требующего рассмотрения и разрешения» воспринимается разумом противоречие.
Будучи «перенесена» в материальную сферу, диалектика обращается в абсурд. Мировой разум, который мучается противоречиями и, решая их, движет мир, – такая картина кому-то покажется неверной, неточной или спорной, но она внутренне ясна и последовательна. Материя, которая мучаясь противоречиями, развивает саму себя, – это нелепость гораздо более баснословная, чем «ступа с Бабою-Ягой», которая «идет-бредет сама собой». Прежде всего, сами слова «диалектика», «противоречие» в точном их смысле не могут быть применены к материальному бытию (если не впадать, конечно, в наивный гилозоизм). В материальном бытии нечему противо‑речить и «диалектическую беседу» тут вести некому. То, что «сила действия равна силе противодействия», – это можно, конечно, считать неким «противоречием на материальном уровне», но только в неком метафорическом смысле: никто никому ничего не речёт тут против, нет здесь никакого конфликтного напряжения и проблемности, и никуда никого это противоречие не ведет и не «развивает». Неудивительно, что для иллюстрации диалектического закона о противоречии как источнике развития марксистские философы приводили всегда примеры из социальной сферы или из области творчества интеллектуального или художественного. «Переход количества в качество» иллюстрировался закипающим чайником, «отрицание отрицания» – прорастающим зерном, но корень и смысл диалектики, «принцип единства и борьбы противоположностей» раскрывался всегда из сферы человеческого духа.
Если уж говорить о некоторой «мистифицированности» гегелевского варианта диалектики, то проявляется она вовсе не там, где ее усматривал Маркс. «Материалистическая диалектика» как раз и порождена гегелевской мистификацией. Мистифицирует Гегель (бессознательно и непроизвольно, надо полагать) тогда, когда говорит о том, что противоречие тезиса и антитезиса «рождает» или «производит» синтез, что противоречие «движет» развитие, что противоречием «созидается новое».
Дело ведь в том, что противоречие само по себе ничего создать и породить не способно, оно является только проблемой, которая провоцирует движение мысли. Проблема требует решения, но не порождает его, решение всегда является творческим прорывом духа. Без того, кто мыслит, противоречие ни возникнуть, ни решиться не может. Для Гегеля это было, видимо, вполне очевидно: мир есть разум, и не застывший формальный разум, а разум живой, диалектический, творческий, – он вопрошает сам себя, рассуждает сам с собою, реализует себя и, опознавая себя в своих воплощениях, движется дальше в самопознании и творческой самореализации. Противоречие, если быть точным, настолько же «порождает» нечто новое, насколько особенности ландшафта «порождают» движение путника, или насколько техническая проблема «порождает» изобретение. Да, если бы не было вовсе ландшафта, или был бы он другим, не было бы вовсе этой проблемы или несколько другие условия она имела, – не было бы ни такого вот пути, ни такого вот изобретения, потому что не нужны и невозможны они бы были. Однако совершается путь и делается изобретение не ландшафтом и не проблемой, а целеустремленным духом.
Разработка Гегелем принципов диалектической логики может быть оценена как едва ли не важнейшая предпосылка предлагаемой нами «философии соборности». По крайней мере, в рамках западноевропейской философской традиции вряд ли возможно указать более значимое в этом смысле явление. Вровень же с гегелевской диалектикой, в качестве предпосылки философского «принципа соборности» может быть поставлена только философия Шеллинга. Не случайно именно эти два имени оказались чрезвычайно значимы для формирования мировоззрения «славянофилов», – тех русских мыслителей, с которых начинается непосредственная разработка в философии темы соборного единства.
Несколько большая привлекательность для русских мыслителей Шеллинга по сравнению с Гегелем очевидно объясняется меньшей его «рационализированностью». В отличие от Гегеля, видящего в разуме абсолютно универсальный принцип, Шеллинг говорит о необходимости некоего «цельного знания», прообраз которого видит в древней мифологии. И в эстетическом чувстве, и в религиозной вере, и в нравственном сознании он видит несводимые к разуму, не враждебные ему, но другие, чем он, проявления человеческого духа, призванного к цельности. Такие идеи несомненно были очень созвучны запросам и интуициям русского философствующего духа.
Онтология как Шеллинга, так и Гегеля сильно тяготеет к пантеизму55, который, как уже было сказано, уничтожает возможность мыслить соборное единство. И Шеллинг, и Гегель имеют значимость для философской разработки принципов соборного единства не благодаря своим онтологическим построениям, а скорее с методологической стороны: Шеллинг – попыткой синтеза философии и религии, Гегель же – своей диалектикой. Необходимо только прояснить настоящий смысл этой диалектики, очистив ее от вышеуказанной «мистифицированности» и избавив от необходимости «переворачиваться с головы на ноги». Стоять она должна так, как и возникла и развилась в истории человеческой мысли: если у растения его «голова» (то есть корни, которыми оно питается) находится внизу, то не стоит «по-мичурински» пытаться исправить это положение. И если от образного языка перейти к более строгим формулировкам, то нужно сказать следующее.
Диалектика есть неотчуждаемая принадлежность логики (то есть той сферы, где взаимодействуют логосы, где движутся мысли, где рождаются смыслы), диалектика неприложима ни к какой области бытия вне разума, она немыслима в качестве имманентного свойства материального бытия. Диалектические взаимосвязи – это взаимосвязи понятий, а не вещей; диалектические переходы – это движение мысли, а не движение вещей, диалектическое развитие – это проявление творческой способности духа, а не какое-то волшебное «саморазвитие вещей». То есть, диалектика может быть в определенном смысле верна как описание духовной основы мира, но не как «диалектика природы» или «историческая диалектика» (понимая здесь историю как «материальный процесс»). Таким образом, именно в метафизической области присутствует диалектика, а на физическом уровне ее нет и быть не может. Метафизика – это и есть единственная законная область действия диалектики: всякая диалектика вне этой области – «диалектика природы» ли, или «диалектика общественной жизни» – есть лишь форма выражения диалектики метафизической. А «метафизическая диалектика» это и есть соборность: любвно-противоречивая связь вечных смыслов. К обсуждению этих вопросов мы еще вернемся в следующей главе нашей работы, рассмотрев взаимоотношения идеи соборности с традиционным философским инструментарием.
ГЛАВА 2
ЛОГИКА СОБОРНОГО ЕДИНСТВА
Прежде чем приступить к постановке и решению некоторых основных философских проблем на основе принципа соборности, следует предварительно прояснить внутренний смысл и логику идеи соборности, а также ее соотношение с традиционным терминологическим аппаратом философии. До сих пор говорилось о том, как понимали соборность различные мыслители, богословы, философы, общественные деятели, однако все это предыдущее изложение имело целью подвести мысль к возможности выработать некое синтетическое, качественно новое и, по возможности более глубокое понимание смысла соборного единства.
К такому пониманию необходимо идти от рассмотрения «феноменологии» соборности. Слово «феноменология», не случайно заключено здесь в кавычки. Тот анализ, который будет представлен, вряд ли можно назвать феноменологическим подходом в традиционном, гуссерлианском смысле. В то же время это слово употребляется не в каком-то переносном смысле, – под «феноменологией» имеется в виду обращение к феномену, «феноменон», – как о том пишет, например, М. Хайдеггер: «феноменология значит тогда: «апофенесфе та феномена»: дать увидеть то, что себя кажет, из него самого так, как оно себя от самого себя кажет»56. Замысел нашей «феноменологии» заключается, таким образом, в том, чтобы «дать слово самому бытию», позволить языку описания соборности органически вырасти изнутри ситуации самого соборного единства. В этом смысле в выражении «концептуализация соборности» родительный падеж должен рассматриваться не столько как genetivus objectivus, сколько как genetivus subjectivus: не как наше действие над соборностью, а как концептуализация, коренящаяся в соборности, концептуализация соборностью нашего мира.
Учитывая то, что опыт соборного единства, как уже было отмечено, не является для западной культуры ясно сознаваемой основой понимания бытия, вполне предсказуемо то, что язык мысли, коренящейся в таком опыте, не будет совпадать с традиционным языком западноевропейской философии. Однако предлагаемое исследование исходит из того, что соборность не является только лишь этнографической особенностью русских или конфессиональной особенностью православия, что она есть принцип бытия как такового. А потому не только можно, но и нужно осмыслить взаимные отношения понятийного аппарата западноевропейской философии с языком соборности, в особенности соотношения самого понятия «соборность» с традиционными философскими понятиями, характеризующими единство и целостность.
§ 1 Внутренняя логика соборности
Основой осмысления идеи соборности является внутренний опыт Церкви, – православной Церкви, во-первых и прежде всего, и, во-вторых, Церкви в широком смысле, по С.Л. Франку, как «всякого вообще единства людей утвержденного в вере». Та соборность, которую сознает в себе Церковь, состоит в том, что церковная община независимо от своих размеров обладает всею полнотой духовной жизни, реализует в себе совершенное причастие к полноте Святого Духа, что сама она с полным правом может быть наименована церковной Полнотой. Это понятие, традиционно применяемое ко всей совокупности Поместных православных Церквей, характеризующее Церковь как единое целое, отменяющее собой различение церковной иерархии и «церковного народа», – это понятие «Полноты» имеет один и тот же масштаб и смысл, будучи отнесено и к мировому православию, и к Церкви как мистической и вечной реальности, и к собранию людей, пришедших сегодня в один храм на литургию.