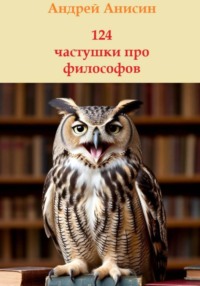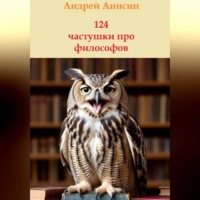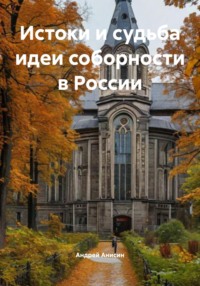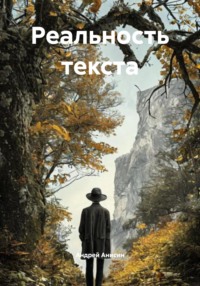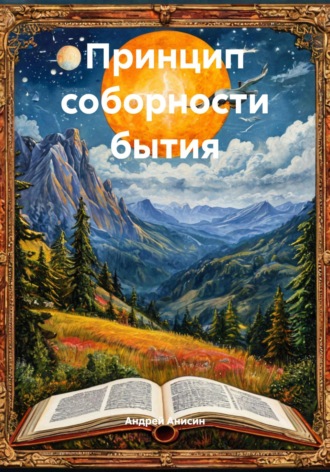
Полная версия
Принцип соборности бытия
Храмы, святилища всегда у всех народов воспринимались как жилище Бога (или богов), поэтому и входить туда люди не могли за исключением особо посвященных жрецов. Жертвенники располагались перед храмом, и именно перед храмом производились почти все церемонии, молитвы, жертвоприношения. Подобное устройство имел и Иерусалимский Храм (только существовал он, в отличие от языческих капищ, в единственном числе), являющийся прообразом христианских церквей: у него был внутренний двор, непосредственно примыкавший к Храму и называемый Двором священников, где совершались жертвоприношения и прочие священнодействия. Низкой оградой, чтобы эти священнодействия можно было видеть, от него был отделен Двор народа, все это окаймлялось еще Двором язычников, где, помимо инородцев, должны были стоять и евреи, не прошедшие ритуального очищения и женщины. А в Святое Святых Храма мог входить только один человек – первосвященник, один раз в год, чтобы принести жертву сначала за свои грехи, а затем за грехи всего народа. Аналогичное устройство храмов усвоило себе и христианство (и не только архитектуру, которая как раз имеет главным образом другие истоки, но и внешнюю форму многих совершаемых там действий и имеющихся там предметов).
Тем поразительнее тот обыденный для современного человека факт, что в храм заходят все христиане (и даже нехристиане) – в то помещение, которое соответствует Святилищу Иерусалимского Храма, доступному лишь для священников. А факт этот имеет истоком то, что все христиане, уже в силу совершенного над ними крещения (и тех действий, которые при этом производятся, что показывает о. Николай Афанасьев), облечены священническим достоинством и призваны к богослужению.
Для понимания сути кафоличности Церкви следует остановиться на содержательной стороне того действия, к которому каждый ее член призван и через которое обеспечивается ее своеобразное существование. Как уже отмечалось выше по другому поводу, основное содержание христианского богослужения заключается в совершении литургии, имеющей свою кульминацию в таинстве Евхаристии, в котором «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Бескровная жертва Евхаристии является повторением и воспроизведением Тайной вечери Христа с учениками, когда «Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26-28).
Следствием того, что прообразом центрального таинства христианской Церкви является Тайная вечеря, является необходимость для одного человека из общины выполнять при ее воспроизведении роль Христа, быть центральной фигурой, предстоятелем при совершении таинства, возносящим при сослужении всей общины благодарение (буквальный смысл слова «Евхаристия») и совершающим бескровную жертву. При этом «священники Православной Церкви не действуют «за» Христа или «вместо» Христа, как будто Он Сам отсутствует, но, напротив, их задача – проявлять и свидетельствовать о действенном присутствии Христовом в мире»15.
Выше уже было упомянуто о церквеобразующем характере таинства Евхаристии, повторим кратко, как достигается церковная «кафоличность». Поскольку после освящения на литургии хлеба и вина, они делаются еще и Телом и Кровью Христа, постольку на «индивидуальном уровне» («индивидуальном» взято в кавычки, так как и все таинства, а это в особенности является действием церковным в глубочайшей своей основе) причастие является принятием внутрь себя Бога, ибо тело Христово неотделимо от Его души, а Его человеческое существо – от Его Божественной сущности. А на уровне церковной общины совместное причащение Святых Христовых Таин делает эту общность людей органическим единством буквально, то есть, проникая каждого причастника, Божественность Христа делает совокупность человеческих существ единым организмом – единым и нераздельным Телом Христовым, то есть – Церковью. «Один хлеб и мы многие одно тело; ибо все причащаются от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17). «Таинство Евхаристии (…) является мистическим при-общением, при-частием людей Богу, друг другу, всему человечеству и всему, что только существует через Христа в Святом Духе», – пишет вслед за апостолом и современный богослов16
Именно поэтому Игнатий пишет: «Старайтесь же иметь одну Евхаристию. Ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единении крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитерами и диаконами, сослужителями моими» (Послание к филодельфийцам IV)17. Это единство жертвенника и единство епископа, отстаиваемые Игнатием, означают для него единство и кафолическую полноту церковной жизни, достигаемые через единство Евхаристического собрания. Кафоличность эта заключается по прямой этимологии слова (каф олу – вообще, в целом; каф ола – «по всему», «по целому») в адекватном отношении к целостности. Она есть такая полнота, которая не нуждается уже ни в каких дополнениях, это не количественная, а, скорее, качественная характеристика. Всякая община, где хранятся истины веры и совершается Евхаристия, обладает такой полнотой церковной жизни, ибо в ней пребывает, ее возглавляет – Христос.
При этом из совершенной тождественности присутствия Христа в каждой Евхаристической чаше, в каждой местной церкви вытекает тот факт, что «если кафоличность не связана с множественностью местных церквей, то по своей природе она стремиться к множественному распространению церквей (…) Задача (…) есть вселенская множественность местных церквей, из которых каждая является кафолической церковью. Кафолическая идея не исключает идею вселенской или универсальной церкви, но ее содержит, как вселенское растущее множество местных церквей, объединенных в любовное согласие»18.
Результаты описанных нами процессов были, в качестве основы, в равной степени унаследованы и Западной, и Восточной церквями, однако при этом существенно различный вид приобрело в этих церквях учение о первосвященстве епископа и его власти по отношению к церковному народу. Неискоренимый юридизм латинства облек и церковную жизнь в строгие правовые рамки. Восток же, усвоив первосвященническую роль епископа в местной церкви и власть одних епископов над другими, сохраняет, тем не менее, свободу церковной жизни. Как пишет современный автор, «митрополиты и патриархи руководят и председательствуют над территориями большими, чем их собственные епархии, – только в чисто человеческих и практических делах, а в своем епископском служении они не важнее и не главнее других. По данной им благодати они совершенно равны друг другу»19.
Если говорить о православии, то, в принципе, ничто внешнее не мешает любой епархии быть автокефальной церковью, ибо она вмещает в себя все, что ей необходимо вмещать. Связанность епархий в единство поместной церкви, как и связанность поместных церквей в единство так называемой Восточно-православной церкви, обуславливается причинами внутреннего плана, которые, может быть, менее надежны по причине невозможности зафиксировать их извне, но зато опорой на эти именно внутренние факторы достигается свобода церковной жизни, вовсе не отрицающая единства, а как раз обеспечивающая его.
Кратко и в принципе эта внутренняя связующая сила называется любовью. Бесконечно повторяемая ап. Иоанном Богословом своим ученикам заповедь «любите друг друга» является наибольшей заповедью, содержащей все остальные, именно потому, что любовь – это единственно возможное органическое единство, в котором обретается положительная «свобода-для» по терминологии Н.А. Бердяева, который сам лично, в силу болезненного нетерпения даже тени принудительности, никогда так и не смог отделаться от рецидивов «свободы-от»: свободы от авторитетов, от Церкви, от Бога…
Апелляция к любви, как внутрицерковной связующей силе, выглядит малоубедительно для «внешних» ей, но, как свидетельствует прот. Н. Афанасьев, «признание в церкви иной власти, чем власть любви, означало бы или умаление, или отрицание благодати, т.к. оно означало бы умаление или отрицание общей для всех в Церкви харизмы Любви, без которой не может быть никакого служения»20. Такое умаление или отрицание благодати в Церкви можно поставить в вину и католичеству с его приписываемой папе юрисдикцией как в Церкви, так и за ее пределами, и протестантизму с его сведением «объективной реальности» любви и единства, даваемого ею, к субъективному переживанию теплых чувств по отношению к «братьям по вере», с его отрицанием всякой власти вообще.
Подводя некоторый итог анализу понятия кафоличности, следует отметить, что исторический процесс организационного становления христианской Церкви, является процессом не возникновения, а постепенного оформления идеи кафоличности, постепенного выкристализовывания определенного способа реализации понятия о «кафолической Церкви», понятия, которое присутствует уже в самом начале этого процесса и определяет собою его.
Причем это присутствие имеет характер не умственной конструкции или некоего утопического идеала, – оно изначально и навсегда дано экзистенциально и вещественно, эта «кафоличность» обнаруживает себя в реальной жизни Церкви, существо которой «есть божественная жизнь, открывающаяся в тварной; совершающееся обожение твари силою Боговоплощения и Пятидесятницы»21. Ранее христианство дает очень непосредственный, «наивный» образ соборности, который, в силу этих своих качеств и более чист, и более бесплотен, духовен, его реализация носит больше характер экзистенциальный, – действие соборного начала здесь ярче и мощнее, чем в последующие века, но оно имеет минимальное внешнее оформление. На первом этапе, наиболее совершенно отражающем заповеданный Христом идеал церковной общности, – как раз в силу зачаточного характера развития земных черт Церкви, – существует полное равенство и единство всех членов общины (доходящее в Иерусалиме до общности имущества). Все христиане облечены здесь «царственным священством», что не мешает разнице служений в Церкви: одни призваны к пророчеству, другие к учительству, есть предстоятель, в сослужении со всем народом совершающий Евхаристию, есть диаконы, поставленные «пещися о столах» и т.д. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12, 4-7).
Очень важно, усваивается ли понятие о личном обладании благодатью священства, или же этому обладанию указывается основание и цель в общественном служении, в церковной жизни всего народа. Различное понимание апостольского преемства в Западной и Восточной церквях является одним из определяющих условий, формирующих ту или иную интерпретацию «кафоличности».
На Западе под ним «подразумевалось личное преемство власти, восходящее к апостолам и получаемое епископами при рукоположении через возложение рук (…) В православном понимании это преемство всегда обусловлено единством церковной веры (…) Вне Церкви нет и преемства, а само преемство есть знак единства веры, а не «магическое свойство некоторых личностей-епископов (…) Преемство, таким образом, существует в рамках всей Церкви, как целого, а не на уровне отдельных личностей (…) только в контексте евхаристического собрания верных обнаруживается «дар Истины», которым наделены епископы»22.
Таким образом, выводы относительно экклесиологического принципа соборного единства, раскрывающего кафолическую природу Церкви, можно свести в следующие пункты: 1) Соборность есть неотъемлемая черта Церкви, как богочеловеческого организма; теряя соборную природу, сообщество верующих перестает быть Церковью. 2) Соборность предполагает триединство свободы, целостности и любви, и любовь имеет основополагающий смысл. 3) Онтологическим основанием соборного единства является действие Св. Духа, открывающееся во взаимной любви христиан, дарующей как свободу, так и целостность, и овеществляющееся – в таинстве Евхаристии, соединяющем собрание верных в единое Тело Христово. 4) Внутренняя структура церковной общности, как выражение церковной природы Церкви, вырастает из потребностей литургического действия. Различие прав, обязанностей и функций внутри Церкви, различие благодатных даров в ней определяется различием мест в общем служении и своеобразным характером тех или иных частных служений в рамках общего. 5) Те или иные благодатные дары, принимаемые и передаваемые отдельными личностями, не имеют смысла на уровне этих личностей, как обособленных индивидов, они реальны лишь в контексте целостного единства церковной общности. 6) Как следствие из предыдущего пункта, – действия, совершаемые «отдельными» людьми по особо сообщенной им благодати, есть, в сущности, действия церковные, ибо благодать, действующая в них, есть достояние всей Церкви, как целого. 7) Все «частные» дела веры, вплоть до личного «обожения», носят не единоличный, а церковно-личный характер соборного действия.
Предварительно определяя экклесиологический смысл соборного единства, можно сказать, что православная соборность есть одна из основополагающих характеристик церковной жизни, выражающая совершенную полноту и целостность Церкви как особого рода «коллективной личности» и богочеловеческого организма, при этом совершенство, полнота и целостность церковного организма реализуются лишь через множество составляющих Церковь индивидуальных личностей, посредством соборования возрастающих в Ней до совершенства, полноты и целостности личного бытия. И «коллективная», и индивидуальная личность имеют, таким образом, своей основой постоянное соборование: в первом случае – как «собирание» себя и обретение своей целостности в собственных членах, во втором как свободное единение в любви и едином служении, дающее возможность обрести целесообразную полноту собственной личности. Философское значение разработки идей кафолического устройства Церкви выражается прежде всего в том, что она дает уникальный образец выстраивания отношений индивида и общности, части и целого на основе их общей соотнесенности с Абсолютом, который выступает как высшее, порождающее и правящее начало как индивида, так и общности.
В.В. Зеньковский в свое время указывал на большой философский потенциал двух религиозных идей, мало востребованных философией: идеи творения и идеи первородного греха23. В освоении этих идей Зеньковскому видится возможность для философии некоего «второго дыхания» и самое главное – возможность ее выхода на новый уровень, который бы снимал в себе платонизм (каковым, в конечном счете, является вся европейская традиция), как философию принципиально языческую, возможность ее преображения в философию христианскую. Соглашаясь с этой интуицией Зеньковского, следует добавить, что, помимо указанных двух идей, идея соборности также представляет собой некое неосвоенное философией богатство и, наряду с первыми двумя, могла бы быть небесполезна в деле чаемого Зеньковским преображения философии.
Идея соборности, помимо и, в некотором роде, еще до своего социально-философского звучания, имеет и онтологический смысл, раскрывая принципы единства мира и основание гармонии в нем, так же как онтологический смысл имеет и идея первородного греха, призванная вскрыть в христианской онтологии основания разделения и розни в мире, онтологические корни и смысл зла24. При этом, хотя онтологический аспект темы соборности, как сказано, в некотором роде, а именно – в рациональной логике системной философской мысли предшествует ее социально-философскому звучанию, однако, свое содержательное богатство эта идея черпает именно в «социальном бытии», то есть в «феноменологии Церкви».
Таковы духовные – церковные в узком смысле этого слова – основания возможного философского освоения темы соборности. Однако, говоря о возможной «философии соборности», которая видела бы в принципах соборного единства универсальный онтологический смысл, необходимо иметь в виду и более широкий – общечеловеческий и мистический – смысл «церковности», как некоего живого единства в вере, в любви, в свободном служении. Этот смысл вполне определенно улавливается – больше или меньше – всеми глубокими мыслителями на протяжении всей интеллектуальной истории человечества.
§ 2 Идея соборного единства бытия и античная философия
Приступая к настоящему параграфу, автор считает своим долгом, прежде всего, извиниться за неизбежную краткость и неполноту изложения. Вся история западной философии, которой посвящены многие тома исследований и которую эти тома никак не исчерпывают, – вся эта история европейской мысли излагается здесь на десятке-другом страниц. Однако необходимо все-таки, не сползая в фамильярность, выделить из всей этой истории, у крупнейших ее представителей ту линию разработки философской проблематики, которая важна для проводимого исследования.
Европейская философия начиналась в Древней Греции именно с тех проблем, которые являются центральными для темы соборного единства бытия. Проблема первоначала и первоосновы и проблема единства и множественности в бытии, – они почти одновременно легли в основу зарождающегося философского мышления о мире и человеке. Уже размышления о первоначале, как бы ни были они непохожи на разработку темы соборного единства, имеют в своей основе предположение о едином начале всего, о некоем едином общем корне всего во времени – первоистоке, и о некой общей вечной основе всего – универсальной субстанции. «Мудрость в том, чтобы знать все как одно», – говорит Гераклит25, выражая, пожалуй изначальный запрос философствующего духа.
Даже «материалистические» ответы на эти вопросы, которые даются в рамках Милетской школы, предполагают, помимо прямого «физического» смысла, смысл метафизический. Для того, чтобы, всматриваясь в мир, сказать, что «началом всего является вода», необходимо видеть в воде не просто очень распространенное в мире и нужное для жизни вещество, омывающий сушу Океан и сильный растворитель, – в воде необходимо разглядеть не имеющее формы начало всех форм, бесконечно дробящееся и воссоединяющееся единство всего, необходимо было увидеть в ней ВСЁ-ВООБЩЕ не только как художественную метафору, но и как реальный символ («симвалон» от «симвалло» – сливать, соединять, сталкивать, сравнивать, то есть некое со–в–падение). То же самое надо сказать и об анаксименовском «воздухе» и об «апейроне» Анаксимандра.
Точнее понять смысл этих «вещественных» первоначал помогает изречение Гераклита: «Под залог огня все вещи, и огонь [под залог] всех вещей, словно как [под залог] золота – имущество и [под залог] имущества – золото»26. Вещи не из огня состоят (и не из воды\воздуха\земли\арейрона), но они огню (или перечисленным началам) как-то соответствуют, каждая из вещей с первоначалом как-то связана и силою этой связи все вещи есть единство.
Связь же с первоначалом есть, во-первых, порождение, «генезис». Бытие порожденного берет начало в рождающем, но оно другое, нельзя сказать, чтобы порожденное состояло из породившего его, или что оно есть видоизмененное рождающее начало. Одна единая природа («физис») является всеобщим порождающим началом, но вещи различны между собой по существу и они не есть сама непосредственно единая природа. Рождение не есть видоизменение, не есть изготовление, не есть проистекание, оно есть таинственное зачинание чего-то иного. Зачать и родить – это означает обеспечить собою появление другого отдельного существования, несущего в себе черты породившего, но не сводимого к нему. Не сводимого к нему, но коренящегося в нем. А вернее всего, – именно не коренящегося (корнями уходящего в него), а зачатого им: от семени его возросшего.
Семя – это не часть существа, это рождающий импульс. Растения могут размножаться и кусочками себя, вегетативно, черенками, но семя растения – это не его часть, это зачаток другого. Высшие животные кусочками себя размножаться уже не способны, только семенем, которое, – еще раз подчеркнем, – ими вырабатывается, ими хранится, но не им принадлежит, не является их частью, будучи зачатком другого существа. Итак, во-первых, первоначало есть «семя ВСЕГО».
Во-вторых, связь с первоначалом есть некая эквивалентность его всем вещам, позволяющая ему, будучи мерой всех вещей, все даже самые разнопорядковые вещи сравнивать, в соответствие друг другу ставить. Помимо уже приведенных слов Гераклита, о том же – изречение Анаксимандра: «А из каких [начал] вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [=ущерба] в назначенный срок времени»27. Так же как золото не содержит в себе материальной возможности вещей и благ, не является их материей, но равносильно, эквивалентно им, способно на них обмениваться по некоему соответствию, так и всеобщее первоначало не материально содержит в себе вещи, не потенцией их является, но обеспечивает собою их совпадение и единство28.
Другой вариант разработки проблемы первоначала дан в пифагорейской школе. Здесь прямо утверждается то, что по отношению к Милетской школе было только что высказано (при помощи Гераклита) в качестве возможной более глубокой интерпретации. Первоначало не заключает в себе материала вещей мира, мир не сделан и не возник из него, первоначало является рождающим и правящим принципом мира: «все числу подобно». Число есть универсальная мера соответствия вещей, – с‑равнения их, со‑в‑падения или раз‑личия, число есть и то семя, на которое вещи непохожи, но из которого вырастает все их существование и все их отношения.
С проблемой первоначала, как уже было отмечено, неразрывно связана и проблема соотношения единства и множественности в бытии. Эти две проблемы суть две стороны одной и той же мыслительной установки, они естественным образом перетекают одна в другую. Утверждение идеи первоначала ставит проблему осмысления связи единства этого первоначала и множественности проявлений бытия. Заведя речь о первоначале невозможно игнорировать вопрос о характере его присутствия. Является ли первоначало простою, внутренне не различенной актуально единой сущностью мира, или же оно есть всеобщая универсальная связь актуально множественных внутренне простых сущностей в мире, вот в чем вопрос.
Ответ, даваемый на этот вопрос Парменидом, вытекает, как известно, из чистой логики мышления а также принципа тождества мышления и бытия. Мысль и то, о чем она, – суть одно, а потому то, что мыслимо, то есть, а что немыслимо, того нет. Отсюда и следует, что, хотя по мнению мир очень пестр и изменчив, по истине все – едино и неизменно, «ибо бытие ведь есть, небытия же нет», а стало быть нет и не может быть ни возникновения, ни уничтожения, ни изменений. Парменид утверждает, таким образом, абсолютное, сплошное, неизменное и неразличимое единство бытия. Он утверждает его на чисто умозрительных, спекулятивных, как сказали бы мы, основаниях, однако нельзя забывать, что всеобъемлющий Логос, как и живой Космос, представлял собой очевидную духовную реальность для древнегреческого философствующего ума. Здесь, как и во всякой философии, речь идет о выражении коренных мировоззренческих интуиций.
«Мудрость в том, чтобы знать все как одно», – этот основополагающий принцип, сформулированный Гераклитом, определяет основное направление движения мысли в древнегреческих онтологиях. Эта мысль, двигаясь в своей собственной стихии, естественным образом движется к утверждению Единого, как первоначала Всего и как сущности Всего. Однако мысль способна двигаться и другим образом в другом направлении. Это мы видим в атомистической философии Левкиппа и Демокрита.
Здесь мысль подчиняет себя некой «материальной логике»: вещи актуально множественны, мало того – вещи огромные (весь Космос для начала) состоят из мелких частей, которые в свою очередь распадаются на крохотные частицы, а те опять-таки дробятся на еще более мелкие. А потому в качестве «первоначала» могут и должны быть приняты некие предельно мелкие и далее уже неделимые «элементы Всего». «Пустота отделяет частицы вещества друг от друга. Если бы не было пустоты, не было бы реального множества и движения. С другой стороны, если бы все было делимо до бесконечности, пустота была бы во всем – явный след диалектики Зенона. Отсюда вывод: так как бесконечная делимость уничтожила бы всякую величину, разрешив ее в ничто, то должны быть неделимые твердые тела – иначе не было бы ничего плотного»29.