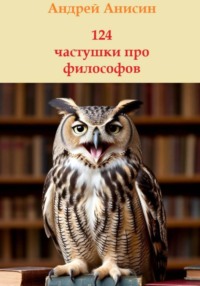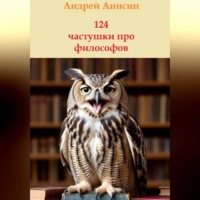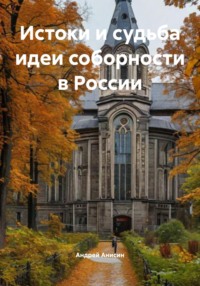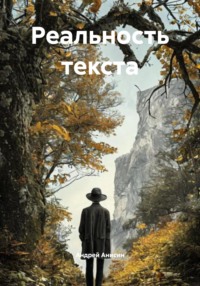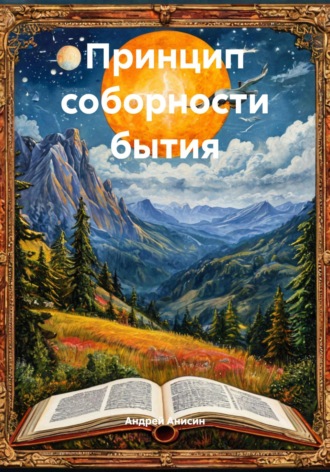
Полная версия
Принцип соборности бытия

Андрей Анисин
Принцип соборности бытия
ВВЕДЕНИЕ
Онтологическая проблематика оказывается зачастую в забвении у современных философов, – таков печальный факт. Возобновление вопроса о бытии есть единственный возможный путь возобновления настоящей философской мысли и возобновления тем самым того уникального статуса, который философия призвана иметь в деле осуществления человеком своего бытия. Настоящая работа предлагает в качестве принципиальной основы философской онтологии идею соборного единства. «Соборность» в контексте нашего исследования обозначает, таким образом, не какую-то частную этнографическую подробность некоторого национального быта (славянско-русского, например), и не специфическую характеристику внутренней жизни некоторых социальных общностей (религиозно-патриархальных, прежде всего), а универсальную основу понимания бытия как такового.
Актуальность так обозначенной темы определяется, во-первых, отмеченным выше кризисом современной философской мысли, выразившемся в элиминировании онтологической проблематики из пространства философского дискурса, а во-вторых, теми открытиями, которые успела совершить русская философская мысль к началу XX века пока ещё не была прервана насильственным образом на родине и не прервалась в эмиграции по причине отрыва от родины (понимаемой и в физическом, и в духовном смысле). Главным таким открытием было наличие неосвоенного духовного богатства восточно-христианской традиции. Православие в качестве духовной основы культуры дает иной, и при ближайшем рассмотрении более глубокий по содержанию и более цельный по своему качеству бытийный опыт, чем тот, который лежит в основании западной философии. Этот опыт может и должен стать не просто плодотворным для философии в смысле разработки неких новых направлений мировоззренческой мысли наряду с прежними, но и светоносным опытом для неё, таким, который позволит философской традиции коренным образом обновится, на основании которого способна возникнуть философская мысль принципиально иного концептуального строя.
Степень разработанности поставленных проблем не может быть оценена однозначно. С одной стороны, сама презумпция основательности фундаментальной интуиции о принципиальном онтологическом статусе идеи соборности предполагает то, что выражения этой идеи можно найти во всякой онтологически ориентированной мысли, – и в тем большей мере, чем более глубокой, чем более близкой к пониманию фундаментальных характеристик бытия эта мысль является. С другой стороны, идея соборности прямо никогда и никем ещё не разрабатывалась в качестве философского принципа. Выражение «принцип соборности» употребляется в философской литературе, но употребляется весьма легковесно. В лучшем случае имеется в виду некоторый принцип жизни, некоторый менталитет народа, – и в этом смысле употребление слова «принцип» может быть признано в какой-то мере оправданным. Но если речь идет о принципе философии, то слово «принцип» употребляется исключительно «для пущей важности», а имеется в виду вовсе не принцип, часто даже не понятие, а только некое расплывчатое представление о коллективном воодушевлении.
В целом можно констатировать, что главный недостаток всей предшествующей философской мысли о соборности, включая и упомянутых авторов, заключается в том, что соборность рассматривается исключительно феноменологически, фиксируется только некое явление соборности, проявления соборного единства: во-первых, на психологическом уровне – особые переживания сердечного соучастия, духовного единства, слияния в одно без утраты себя, и во-вторых, на внешне формальном уровне – наличие собрания, собора, обсуждения и консенсуса, коллективность решений. Между тем «соборность» как явление жизни представляет собой глубокий и оригинальный бытийный опыт, а «соборность» в качестве понятия обладает огромным философским потенциалом и способно стать принципиальной основой философской мысли.
Таким образом, целью предлагаемого исследования является разработка философского принципа соборности в применении к онтологической проблематике, как наиболее фундаментальной области философского знания. Эта цель подразумевает выведение идеи соборности – в качестве выражения уникального бытийного опыта – на предельно высокий категориальный уровень, осмысление идеи соборности как принципиального основания всех конкретных философских концептуальных построений. Эта цель предполагает в качестве своей перспективы и сверхзадачи – качественное обновление философии, формирование некой «философии соборности», которая являлась бы, во-первых, предельно высоким теоретическим обобщением православно-русского мировоззрения, а во-вторых, и как следствие первого, – могла бы обогатить мировую философскую мысль.
Речь идет о новом направлении философской мысли, – насколько вообще в философии возможно говорить о «новизне» направлений, то есть – в смысле новой глубины осмысления вечных истин. «Философия соборности», имеющая в основе принцип соборного единства бытия, способна, на наш взгляд, не просто дать некие оригинальные и свежие решения традиционных философских проблем, но и качественно обновить философский дискурс современности. Такая философия, будь она развита, могла бы стать альтернативой западноевропейской философской традиции, тем взыскуемым уже не первый век «русским словом» в философии, которое имело бы – как и всё русское – значение всечеловеческое и универсальное.
ГЛАВА 1
ОСНОВАНИЯ ИДЕИ СОБОРНОСТИ
Всякая философская система имеет в своей основе некоторую определенность духовного опыта, каждое философское понятие, призванное, в качестве такового, дать слово Бытию, должно для обеспечения этого призвания органически вырастать из духовного опыта человека, нести в себе существенное своеобразие этого духовного опыта. Приступая к разработке «философии соборности», приступая к осмыслению соборного единства в качестве универсального онтологического и гносеологического принципа, необходимо обратиться, прежде всего, к тем жизненным духовным истокам этого понятия, связь с которыми одна только и может обеспечить этому понятию настоящий смысл и мощь. Собственно говоря, именно эти жизненные духовные истоки должны определить подобающее место и значение исследуемого нами понятия в системе философского знания. Философская мировоззренческая значимость всякого понятия, его потенциал тем выше, чем более глубокие, фундаментальные формы онтологического опыта человека в понятии выговариваются.
Тем жизненным духовным опытом, который лежит в основании понятия соборность, является опыт Церкви. Само это понятие родилось и получило первоначальное осмысление в рамках экклесиологии, христианского учения о Церкви. Именно через анализ экклесиологической разработки понятия о соборном единстве возможно выйти к пониманию оснований возможной философской мощи этого понятия, и истоков неоднозначности толкования принципов соборного единства, и возможных путей искажения этих принципов.
Однако, поскольку в соборности предлагается видеть именно универсальный принцип бытия, а не просто некоторый один из многих возможных взглядов на мир, постольку логично было бы предположить, что этот принцип выражался так или иначе во всякой настоящей философии. Западноевропейская философская традиция демонстрирует попытки подойти к пониманию соборности бытия чисто философским путем, – подойти, фактически, извне. В основании этих философских построений лежит, как правило, иной духовный опыт, что ставит их во внешнее отношение к истокам соборности. Однако в той мере, в какой мы имеем дело с глубокой философской мыслью, в этой мысли не может не сказываться соборная логика бытия. Именно поэтому необходимо проанализировать философский опыт Запада в качестве важной предпосылки предлагаемого философского осмысления принципов соборного единства в бытии.
§ 1 Экклесиологические корни понятия соборность
Давно известно, что для человека, малограмотного в некоторой сфере жизни, вся эта сфера представляется вполне однородной, а все явления, принадлежащие к ней – совершенно равноценными. Таков общераспространенный ныне взгляд на религиозную веру. В лучшем случае религию предлагается делить на две части: «хорошую» и «нехорошую», при этом предполагается, что все «хорошие» религии похожи друг на друга, а «нехорошие», если и нехороши каждая по своему, то эта разница только количественная. Однако, в религиях, помимо внешней экзотики, которую видеть легко, но которая, конечно, не существенна, всегда присутствует и существенная уникальность духовного опыта. Эта уникальность выражается и в религиозных понятиях, и в способах выстраивания духовной жизни. Безо всякого преувеличения можно констатировать, что таких уникальных сущностных особенностей наличествует больше всего в христианстве. И при этом самым фундаментальным сущностным его отличием от всех других религиозных направлений является Церковь. Все другие значимые особенности христианской веры суть проявления этой церковной реальности.
Церковь в христианстве является предметом веры, наряду с Божественным достоинством Христа, Воскресением Его, Триединством Бога и другими догматами. Причем важно отметить, что в отличие от всех других пунктов веры, необходимость веры в Церковь никогда не отвергалась в христианстве (раннем, по крайней мере). Различные кривотолки случались по поводу многих основополагающих христианских идей (Троица, христология), но не по поводу Церкви и принципов ее единства.
То, что Церковь переживалась всеми христианами как единственно возможная форма христианской духовной жизни, опять-таки не означает отсутствия разномыслий относительно ее сущности. Забегая вперед, можно сказать, что именно такие разномыслия в понимании Церкви привели христианство к расколу на католический Запад и православный Восток. А следовательно, достижение ясного понимания сути этих разномыслий необходимо для уразумения сути различия фундаментальных оснований западной цивилизации и цивилизации православной. Этот вопрос имеет, таким образом, не археологический, а вполне актуальный смысл в современной России, стоящей перед лицом предельно серьезных геополитических вызовов.
Итак, обратимся к рассмотрению экклесиологического смысла понятия «соборность», а обращаться при этом надо, прежде всего, к первоисточникам (они же – первоистоки). «Верую…во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь», читается в Символе веры, который излагает основополагающие догматы христианской веры. Понятие соборности оказывается, таким образом, одним из четырех ключевых слов, какими характеризуется христианская Церковь, как предмет веры. И именно это слово из всех четырех, мягко говоря, не сразу понятно не только современному человеку, но, по всей видимости, и нашим далеким предкам. Дело еще осложняется тем, что в оригинале, написанном по-гречески, стоит слово «кафолики́» (здесь и далее при передаче греческих слов мы следует «итицизму», новогреческому произношению), а потому, говоря о «соборности», мы имеем дело с переводом.
Не случайно именно по поводу этого слова возникают наибольшие вопросы и неясности в христианской экклесиологии. В конечном итоге, можно сказать, что это единственное из четырех догматических слов, характеризующих Церковь, не просто принимает различные оттенки, оно обретает существенно разный смысл в западной и в восточной традиции христианства. «Западный человек, исповедуя свою веру в «Eglise catholique», «catholic Church», «katolische Kirche», думает попросту, что речь идет о католической церкви, имеющей свой центр в Риме, в лучшем случае под этим словом он воображает себе Церковь вселенскую, распространенную по всему миру»1. Западные христиане просто вели у себя в употребление греческое слово, также как в христианское употребление у самых разных народов вошли многие еврейские и греческие слова: «аллилуйя», «аминь», «апостол», «евангелие». Иллюзия автоматической адекватности смысла при таком заимствовании дает повод католикам упрекать славянские церкви в неправильном и искажающем переводе греческого «кафоликос», стоящего в подлиннике Символа.
Этот упрек повторяет и В.С. Соловьев в пору своего увлечения идеей всемирной теократии (о чем мы будем говорить в свое время): «Если в славянском чтении Символа веры Церковь признается соборною, то это, как известно, есть лишь архаический перевод греческого слова и, следовательно, означает церковь, собранную отовсюду, церковь всеобщую, а никак не церковь, управляемую собором епископов: для выражения этого последнего смысла по-гречески должно было бы стоять не «кафолики́», a «синодики́»»2. Однако, следует, прежде всего, задаться вопросом, действительно ли православие понимает соборность в смысле приписывания исключительного руководящего авторитета соборам епископов, а кроме того с тем же правом можно сказать, что для выражения католического смысла по-гречески должно было бы стоять не «кафолики́», весьма редко встречавшееся в дохристианской литературе, а очень употребительное и понятное «икуменики́».
Собственно говоря, то, что Запад оставляет это слово без перевода, просто транскрибируя его, вовсе не обеспечивает сохранение смысла: кроме как на греческом языке, «кафоликос» ни на каком другом не означает ровным счетом ничего. И если по-латыни (и на романо-германских языках) «catholicus» несет вполне определенный смысл, то это столько же результат перевода, как и славянское «соборность». Речь, таким образом, может идти об удачности того или другого перевода, о точности воспроизведения исходного смысла. В попытках выяснить этот исходный смысл мы будем пока обозначать его термином «кафоличность». Выстраиваться же эти попытки могут только исходя из того, что «значение слова – это его употребление» (Л. Витгенштейн)3, следовательно, необходимо попытаться восстановить контекст употребления этого слова христианами первых веков (первых трех веков, прежде всего).
Впервые в древнехристианской литературе это слово встречается у свт. Игнатия Антиохийского (II век) в его послании к жителям города Смирны: «Где появляется епископ, там да будет и община, подобно тому, как там, где Христос, там и кафолическая церковь». Для католиков, сделавших это слово своим самоназванием, кафоличность равна вселенскости, всеобщности, и слова Игнатия в их понимании проводят аналогию: епископ для местной церкви является тем, чем Христос является для вселенской Церкви в целом.
Однако, сорока годами позже этого послания Игнатия в мученических актах св. Поликарпа Смирнского можно прочитать формулировку, исключающую перевод «кафоличности» как «вселенскости»: Поликарп именуется как «епископос тис ен Смирни кафоликис экклисиас» (епископ кафолической церкви города Смирны). Очевидно, что здесь это слово выступает признаком отдельной местной церкви, на вселенскость никак на претендующей, а значит – с формальной точки зрения – может быть применена к любой местной церкви, что никак уже не вяжется с католическим толкованием. С большой натяжкой в приведенных словах можно все-таки увязать с «католичностью‑вселенскостью», буквально понимая греческий оборот речи: «епископ, той, которая в Смирне, католической церкви». То есть подразумевая, что «католическая» церковь одна на весь мир, но может присутствовать в разных местах. И все-таки приведенное словоупотребление является очень весомым доводом в пользу того, что смирняне понимали кафоличность «не по-католически». А коли так, то естественно предположить, что и в послании к ним свт. Игнатия Богоносца это слово имеет другой смысл.
Протопресвитер Николай Афанасьев, исследуя этот вопрос, приводит еще вариант толкования, примыкающий к католическому, но являющийся более «мягким», расширительным, а именно, «что термин «кафолическая церковь» означает у Игнатия совокупность местных церквей или их мистической объединение через единство веры»4. Однако, такое толкование без дальнейшего раскрытия его смысла либо сводит исследуемое понятие к просто красивому слову, либо – если мистическая реальность признается существующей – к неопределенному и внешне невыразимому переживанию. Необходимо, прежде всего, ясно понять, на чем основано и в чем выражается это «мистическое объединение», каково то реальное качество церковной общности, которое раннее христианство обозначило словом «кафоличность». И прежде чем обратиться к первохристианским источникам и говорить о православной точке зрения на этот вопрос, рассмотрим несколько более прямолинейные воззрения католичества.
В основании католицизма, как учения о Церкви, лежит, как известно, теория папизма, рассматривающая римского первосвященника как «преемника в примате блаженного Петра», который (первосвященник) «не только имеет первенство чести, но и высшую и полную власть юрисдикции над всей Церковью, как в вопросах, касающихся веры и нравственности, так и в тех, которые касаются дисциплины и управления Церковью, разветвленной по всему миру» («Свод канонического права» папы Бенедикта XV, 1917 год). Папа римский является согласно католической терминологии «викарием Христа» (vicarius Christi – викарий в Древнем Риме буквально: слуга, управляющий домом в отсутствие хозяина). В силу такого статуса папа римский имеет монархическую власть и в Церкви, и во всем мире, которая выражается в понятии непогрешимости папы в делах веры, а также в учении о том, что и светская власть тоже подпадает под папскую юрисдикцию и только перепоручается папой светским государям.
Здесь речь идет, конечно, не о личной безгрешности или достоинствах папы, но имеется в виду исключительная роль этого места (римского престола) в католическом сознании: «Папа, не как человек, а как преемник Петра и орган Святого Духа, обладает безусловною, абсолютною истиной во всей ее полноте. Как обладатель истины, он принадлежит к невидимой Церкви и соединяет ее с видимой.(…) Но, когда папа действует не в качестве пастыря и учителя вселенской церкви, не при условиях, указуемых догматом непогрешимость, он, как и всякий человек, может ошибаться. И поэтому, сколько бы ни приводилось в пример папских заблуждений и ошибок, догмат непогрешимость остается непоколебленным»5.
В книге епископа Буго «Церковь» (1922 г.), одобрительно встреченной Ватиканом, папа римский приравнивается даже к таинству Евхаристии: как в Святых Дарах причастия под видом хлеба и вина реально присутствует Христос, так и в папе Он реально присутствует под покровом человека. Притом, если в первом случае Он «нем», во втором Он «устами Папы преподает слово Истины, неизменное и непогрешимое»6. Произведенная параллель очень многозначительна: Евхаристия является центральным таинством Церкви, ибо «все другие службы церковные суть только приготовительные моления, сила которых и конец совершаются в Литургии»,7, тогда как «Божественная Литургия представляет эту самую вечерю Господню (Евхаристию – А.А.), – только, для большего назидания нашего, сложенную с некоторыми песнопениями и молитвами»8.
Евхаристия, по существу, есть церквеобразующее таинство, есть актуализация самой Церкви: приобщение Телу и Крови Господним, как реальное единение со Христом является и основой, и смыслом существования Церкви как таковой. «Церковь есть дело Боговоплощения Христова, она есть само это Боговоплощение, как усвоение Богом человеческого естества и усвоение божественной жизни этим естеством, его обожение (), как следствие соединения обоих естеств во Христе»9. В этом смысле евхаристический момент пронизывает всю жизнь церкви во всех ее проявлениях, как это великолепно показано прот. Александром Шмеманом в книге «Евхаристия. Таинство Царства».
Таким образом, епископ Буго в своей книге утверждает фактически, что в фигуре папы римского концентрируется вся жизнь католической (т.е. всемирной, в его понимании) Церкви. Католическая церковь очень велика, католики составляют самую многочисленную группу не только среди всех христианских конфессий, но и вообще среди всех религиозных групп мира,10 но, подобно Людовику, римский папа мог бы сказать: «Церковь это я». Как и в случае Людовика, фраза не совсем буквально точная, но верная по существу. Ибо, хотя Церковь и для католиков есть, безусловно, собрание верующих и мистическое Тело Христово, хотя в материально-физическом плане Церковь явно превышает собою папу, как живую личность, но именно эта живая личность, находясь на римском престоле и выступая как пастырь и учитель всех христиан, определяет, что называется Церковью, кто входит в нее, а кто стоит вне. И самое главное – именно папский престол, – а значит и сидящий на нем папа, – как центральный организующий топос римской Церкви является исключительным проводником Духа Святого, которым живёт Церковь, «он принадлежит к невидимой Церкви и соединяет её с видимой»11.
В глазах католиков церковная иерархия и, в конечном счёте, персонально папа римский выступает гарантом того, что Церковь, действительно, существует не только как случайное сочетание людей, но и как нечто, имеющее вечный смысл, и гарантом того, что мы к этому высшему смыслу причастны. При этом «христианскость» отождествляется с «католичностью», а последняя находит своё адекватное выражение и подтверждение во власти римского первосвященника, а потому «всякий, получивший крещение, всё равно – в католичестве или вне его, приемлется в лоно католической церкви и, благодаря самому акту крещения становится подвластным главе этой церкви – папе»12.
Весь западный мир является наследником римской культуры, которая сильна была своим государственно-правовым духом, воинскими и гражданскими добродетелями. Римская империя реально была тем «правовым государством», которое многие современные общества никак построить не могут. Западное христианство, так же, как и вся европейская культура переняло этот правовой рационализм, юридический подход к человеку и миру, к вопросам веры и спасения души, «в котором личность и её нравственное достоинство пропадают, и остаются только отдельные правовые единицы и отношения между ними. Бог понимается главным образом первопричиной и Владыкой мира, замкнутым в своей абсолютности, – отношения Его к человеку подобны отношениям царя к подчиненному и совсем не похожи на нравственный союз»13.
Этот юридизм накладывается на жизнь Церкви как формы организации религиозной жизни, вследствие чего «у католика «вера» пробуждается от волевого решения: довериться такому-то (католически-церковному) авторитету, подчиниться ему и заставить себя принять все, что этот авторитет решит и предпишет, включая и вопрос добра и зла, греха и его допустимости»14. Власть и подчинение, предписание и исполнение – вот принципы устройства церковного общества на Западе, который, по общепринятому мнению, развивает как раз начало самодеятельной личности, начало свободного индивидуализма.
Юридический дух питает и католическое понятие о «соборности», которое, кстати, было выше продемонстрировано В.С. Соловьевым. Под соборностью, собственно говоря, католики разумеют лишь коллективный принцип управления церковью в противоположность единоличному. Идея коллективности управления породила в средние века так называемое «Соборное движение» (период «Великого раскола» 1378-1417 гг.), а в XIX веке – идеологию «старокатоликов», не принявших непогрешимость папы в качестве догмата.
Вопрос, однако же, не в том, кто должен главенствовать в церковной организации – один человек или коллегия, по крайней мере, вопрос так не стоял для ранних христиан. Употребляя в качестве эпитетов к слову «Церковь» достаточно много слов и терминологического характера, и поэтического, они усвоили, тем не менее, как одну из самых существенных характеристик Церкви слово «кафоликос», редкое в дохристианской литературе. Для выражения имеющегося у них бытийного опыта церковности не подошли настолько хорошо ни «универсальная», ни «вселенская» (икуменики́) в смысле охвата всего мира и всех людей, населяющих землю, ни «совместная» (синодики́) в смысле коллегиального ее управления синодом (сходкой – буквально), собором. Все эти слова не позволяли вместить выражаемый смысл надлежащим образом. Слово «кафолики́» позволило это сделать и было закреплено догматически в Символе веры Второго Вселенского Собора. Попытаться реконструировать тот первый смысл необходимо для уразумения того, что следует понимать под соборной природой Церкви.
В анализе раннехристианских принципов церковного устройства полезно опереться на исследования протопресвитера Николая Афанасьева, в особенности на итоговую его книгу «Церковь Духа Святого». Во-первых, следует отметить, что все христиане без исключения составляют «род избранный, царственное священство» (1 Пет. 2, 9), каждый из них является, в принципе, священнослужителем, каждый обязан, а потому имеет право служить Богу. Этот момент в понимании христианами своей духовной жизни следует, видимо, признать определяющим в раскрытии основ соборного единства.