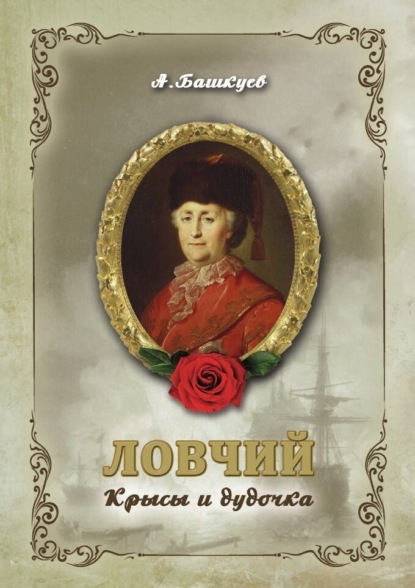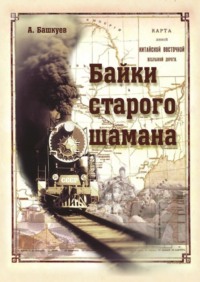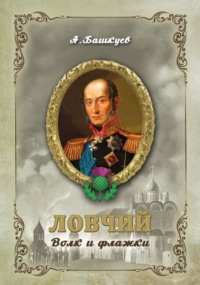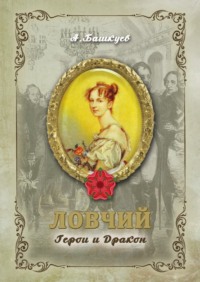Полная версия
Ловчий. Путники и перекресток
Наполеон (хрипло): Все ясно. Мы в Москву уже не пойдем. Там жрать нечего. Надо через Боровскую дорогу выходить на Смоленскую. Вот здесь у Можайска. Дальше приказываю идти на Смоленск, перейти мосты и двигаться через Красное в направлении Борисова. А там уж Березина!
9вПавильон. Осень. Вечер. Клин. Дом Екатерины Павловны
Государыня Русской Ганзы кормит грудью своего младшего сына трехмесячного Петеньку. В соседней комнате открывается дверь и слышен голос Григория Петровича – принца-консорта Русской Ганзы.
Григорий Петрович: Милая! Я уже дома. Много раненых, а еще больше больных. Как бы не началась эпидемия! Весь день в пути, пить хочу, страсть. Это ты себе сделала морс?
Екатерина (начиная укладывать сыночка в кроватку): Нет, мы были с Петенькой на прогулке, кто-то из девок, верно, поставил. Я же его нынче не пью. Заметила: как поем моей любимой смородины, так у Петеньки потом сыпь… Ты пей, коли жажда…
Из комнаты Григория Петровича странный звук. Потом грохот падающего тела и звон разбитого стакана. Екатерина Павловна озадаченно смотрит по сторонам, а потом робко спрашивает.
Екатерина: Гриша? Что с тобой, Гришенька?!
10вПавильон. Осень. День. Санкт-Петербург.
Зимний дворец. Покои Государя
Государь Император и Государыня Елизавета сидят с книжками и что-то обсуждают из прочитанного. Распахивается дверь, и появляются взволнованные Санглен и Голицын. Князь Голицын от возбуждения почти что кричит.
Голицын: Ваше Величество, совершеннейшая измена!
Александр (настороженно): Опять!?
Санглен (сухо): В Клину Шульмейстер пытался убить вашу сестру, Ваше Величество. Волей случая предназначенный Екатерине Павловне яд выпил кузен ваш Григорий Петрович, младший сын принца Петера.
Александр (чуть поперхнувшись): Вот же… Везучая сучка… Шульмейстера немедля сыскать, поймать и пытать, чтобы все про дело сие у него выяснить.
Голицын (жалобным голоском): Ты понимаешь, мин херц, в чем прикол… Шульмейстер потому обмишулился, что приготовил яд и свалил. Но при этом своему суверену принцу Петеру написал, как, что и почему он пошел на сие преступление. Мое письмо приложил, гад… Уверял, что всего лишь хочет отомстить женщине, которая наставляла рога его сыну-наследнику… Принц Петер перед домашними таиться не стал, показал письмо Шульмейстера милой Като. А она уж его размножила и разослала по всем странам Европы. Мы, конечно, перехватили почти уже все, но черт его знает… (С невольным смешком): Теперь ты, по ее словам, форменный Ричард Третий. Убил отца, покушался на родную сестру и милую маменьку. Убил кузена. (Упавшим голосом): Смех!
Государь в ответ что-то непонятное булькает, а Государыня сжала его в объятиях и ревет в три ручья.
1 гНатура. Осень. Ночь. Вязьма.
Военно-полевая типография
Громко стучат колеса печатной машины. Измученные французские офицеры не покладая рук готовят все новые и новые оттиски военной газеты, которую будут раздавать по частям отступающей армии. Перед нами проносятся эти типографские листки, и мы слышим голоса французских генералов, которым по приказу императора положено все, что они видят, описывать.
Генерал Лабом:…Кругом попадались только покинутые амуниционные повозки, так как не было лошадей, чтобы их везти. Виднелись остатки телег и фургонов, сожженных по той же самой причине. Такие потери с самого начала нашего отступления невольно заставляли нас представлять себе будущее в самых темных красках. Тот, кто вез с собою добычу из Москвы, дрожал за свои богатства. Мы все беспокоились, видя плачевное состояние нашей кавалерии, слыша громовые удары взрывов, которыми каждый корпус уничтожал свои повозки. В ночь на 26 октября мы подошли к Уваровскому и были удивлены, увидев село в огне. Нам сказали, что был отдан приказ сжигать все села, в домах которых мы несколько дней назад отдыхали. Их теплый еще пепел, разносимый ветром, прикрывал трупы солдат и крестьян. Повсюду валялись трупы детей с перерезанным горлом, и девушек, убитых на том самом месте, где их изнасиловали…
Прямо здесь, в типографии, пишет свои записки и Сегюр.
Сегюр:…Мы были изумлены, встретив на своем пути только что убитых русских… Удивительно было то, что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова, и окровавленный мозг был разбрызган тут же. Нам было известно, что перед нами шло около двух тысяч пленных и что вели их испанцы, португальцы и поляки, которые ни на что иное были не годны. Каждый из нас, смотря по характеру, выражал кто свое негодование, кто одобрение; иные оставались равнодушными. В кругу императора никто не обнаруживал своих впечатлений. Но Коленкур вышел из себя и воскликнул: «Это какая-то бесчеловечная жестокость! Так вот она – пресловутая цивилизация, которую мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство! Разве мы не оставляем у русских своих раненых и множество пленников? У нашего неприятеля все возможности самого жестокого отмщения!» Наполеон отвечал лишь мрачным безмолвием; но на следующий день эти убийства прекратились. Наши ограничились тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли словно скот. Без сомнения, это было тоже жестоко, но что нам было делать? Произвести обмен пленных? Неприятель не соглашался на это, считая всех сдавшихся предателями и изменниками. Выпустить их на свободу? Они бы пошли повсюду рассказывать о нашем бедственном положении и, попав в строй к своим, стали бы штрафными и яростней прочих бросились бы за нами в погоню. Пощадить их жизни в этой беспощадной войне было бы равносильно тому, что принести в жертву самих себя. Мы были жестокими по необходимости. Все зло было в том, что мы не предвидели всех ужасных стечений обстоятельств! Впрочем, с нашими пленными, которых неприятель гнал в глубь страны, русские обходились нисколько не человечнее, а они-то уж не могли сослаться на крайнюю необходимость…
Граф Сегюр на миг прерывается, перечитывает им написанное и бормочет.
Сегюр: Ну что ж, к утру все это из печати уже, я думаю, выйдет. Наши солдаты это прочтут, и никто более не рискнет сдаться в плен к русским, какою бы кашею их ни заманивали… Главное, сохранить страх перед диким русским медведем не так, так этак. Или все разбегутся… (Горько усмехается): За кашей… Однако как же жрать хочется!
2 гНатура. Осень. Вечер. Москва. Охотный ряд.
Перед зданием новой московской комендатуры
Москва стоит почернелая, выгоревшая и обугленная. В воздухе летают частички гари, сажи и пепла. Перед зданием комендатуры собралась большая толпа москвичей, которые пришли записываться добровольцами на войну с Антихристом. Все чего-то ждут. Вот двери комендатуры раскрываются, и появляется генерал Александр фон Бенкендорф. Он в своем черном прусском мундире с черепом. Лицо его темно и сумрачно. Генерал встает на крыльце, окидывает взглядом свое потенциальное воинство и сухо произносит.
Бенкендорф: Ну что, сдали Москву неприятелю? Так, небось, еще и служили врагу за чины да за паечку? Так было?!
Люди беспокойно и нервно шумят. Генерал недовольный ропот не слышит и продолжает резко, будто лает.
Бенкендорф: И что мне теперь с вами делать?! Вам же ни одному теперь веры нет! А может, вы за цацку какую французскую сдавали соседей своих, называя их партизанами, а затем прибирали их добро, а?
Недовольный ропот достигает пика, когда генерал начинает кричать, делая рубящие движения.
Бенкендорф: А что морды кривим, что, я не прав?! А откуда же из вас, москвичей, набралась целая оккупационная администрация у Антихриста?! Как вышло, что вся профессура Московского университета служила врагу да расстрельные команды составила?! А вы что, на другой планете при этом или под юбками у своих баб прятались?! Ну, отвечаем! Оправдываемся! Перед лицом вот этой растерзанной врагом рода нашего милой Москвы выходим и, глядя мне прямо в глаза, оправдываемся! Ну, кто первый?! А?!
Люди испуганно замолкают. Ряды добровольцев стоят и не движутся. Генерал продолжает немного спокойнее.
Бенкендорф: Что, наглых нет? Хорошо, вижу – совесть у кого-то где-то там все ж еще теплится! Однако раз все вы тут были и преступленья не пресекли, то вы для меня отныне преступники и штрафные! А штрафные кровью вину свою смывать перед Россией обязаны! Кровью!
Строй людей в ужасе содрогается. Генерал Бенкендорф медленно сходит к людям, из-за раны на ноге он еще сильно прихрамывает и поэтому ходит медленно. Он идет вдоль строя и каждому из добровольцев в глаза заглядывает. При этом он, видимо, инстинктивно разглаживает перчатки на своих пальцах по очереди, будто намерен кого-то бить. В этой привычке Александр Бенкендорф очень похож на свою няньку – Эльзу Паулевну. А люди точно так же мертвенно бледнеют, когда он заглядывает им в глаза, как они это делают перед Эльзой. Но вот обход завершен, и генерал уже спокойнее говорит.
Бенкендорф: Все сейчас идут и пишут объяснительные – где был, что делал, что знает о преступлениях, которые здесь, в Москве, совершали противники. А прежде всего, кто из ваших друзей, соседей, знакомых сотрудничал с оккупантами. Без такой объяснительной разговора у нас не получится. К вечеру все докладные должны быть у меня на столе. Беседовать будем ночью. (После недолгого молчания): Ведь у вас по ночам партизан французы расстреливали?
С этими словами генерал резко поворачивается и уходит в комендатуру. Добровольцы стоят и смотрят ему вслед. Вид у них всех крайне шокированный.
3 гПавильон. Осень. Вечер. Шереметьево.
Усадьба Нарышкиных. Комнаты княгини Тучковой
Княгиня Тучкова, одетая во все черное, сидит за письменным столом и что-то вяжет. Осторожный стук в дверь. Княгиня, не отрываясь, говорит: «Входите, открыто!» В комнате появляется граф Федор Толстой в мундире войскового старшины. Он нервно мнет в руках свою шапку.
Федор Толстой: Простите, я заплутал. С чего-то решил, что ваше Шереметьево – дом Шереметевых.
Тучкова (безразличным голосом): Шереметевы продали нам свое имение лет сто назад и перебрались в Останкино. Ищите их там…
Федор Толстой (извиняющимся тоном): Вы не поняли… Я вас искал, да из-за названия усадьбы много времени потерял. Забыл представиться, граф Федор Толстой… Был разжалован, посему сейчас в низком звании… Вы уж простите великодушно, не привык я так на жизнь зарабатывать, но имение наше французы сожгли, так что разорился я сейчас совершенно, а тут – честный заработок…
Тучкова (с раздражением): Да что у вас за дело ко мне? Не томите!
Федор Толстой (делая странные жесты): Батюшка ваш, князь Нарышкин, издал объявление, что ежели кто подтвердит кончину супруга вашего – князя Александра Тучкова, так он за это даст щедрое вознаграждение… Вот я и подумал…
Тучкова (резко прекращая вязать): Вы были там? Вы своими глазами все это видели?
Федор Толстой (разводя руками): Да. Я служил под вашим мужем в его нестроевом Третьем корпусе. В самом конце князь Александр всех нас повел на прорыв, а вышли лишь мы двое с товарищем. Товарищ мой потом, правда, тоже умер…
Тучкова (резко вскакивая): То есть вы саму гибель моего Саши не видели?
Федор Толстой (нервно): Там такая рубка была! Мы не успевали отмахиваться. Не было времени по сторонам посмотреть! А потом после боя лес остался уже за поляками, а у них обычай обязательно добивать русских раненых. Кого-то штыком, а чаще голову разбивают прикладом для верности… Одно слово – пшеки!
Княгиня Тучкова вскакивает и начинает звонить в колокольчик, пронзительно крича: «Папа! Папа!» Дверь в комнату раскрывается, и вбегает старый уже князь Нарышкин. Скорость его появления говорит, что, возможно, старик за дверью подслушивал. Он сразу же начинает восклицать.
Князь Нарышкин: Ты только не волнуйся, Марго! Не волнуйся!
Тучкова (с яростью): Папа, какого черта, зачем? Зачем ты опубликовал свое дурацкое объявление?!
Князь Нарышкин (жалобно): Но как же, Марго?! Пока Саша твой числится пропавшим без вести, ты же не сможешь в третий раз выйти замуж! А годы идут! К тому же в этой войне такая убыль среди всех знакомых… Не сегодня завтра и выбирать станет не из кого, а твое приданое не такое уж фантастическое…
Тучкова (с рыданием): Да как ты мог?! Как ты мог?! Я же по моему Сашеньке в трауре!
Князь Нарышкин (растерянно): Так что ж тут такого? Жизнь продолжается. Ведь ты же не сомневаешься, что князя Александра убили? Ну и славно. Надобно его схоронить и перевернуть этот лист! А у тебя ж еще новые детишки пойдут. Нам с матерью будет радость!
Тучкова (начиная рыдать): Я?! Схоронить?! Моего Сашеньку?! Так ведь тела же нет! И где могилка его – неизвестно! Это ты понимаешь?
Князь Нарышкин (радостно): А я, знаешь ли, присмотрел уже для этого красивую урночку. Попросим, пусть привезут нам земли с Бородинского поля, мы наполним землей сию урну и схороним ее – по-людски. А ты, наконец, снимешь траур!
Тучкова (начиная рыдать и бросаясь на свою застеленную постель): Нет! Нет! Ни за что! Я не сниму траура, пока не сыщу моего милого Сашеньку!
Старый князь глядит на свою горько рыдающую дочку с отчаянием. Его отвлекает, дергая за рукав граф Толстой.
Федор Толстой: Вы уж простите меня, наш полк вот-вот выступает в поход гнать Антихриста, а я гол как сокол…
Князь Нарышкин (кивая и суетливо уводя графа в соседнюю комнату): Да, да, конечно! Спасибо за то, что на мое объявленье откликнулись…
4 гПавильон. Осень. Утро. Санкт-Петербург.
Зимний дворец. Столовая
Царственная чета села завтракать. За столом с ними по обычаю – охранник Санглен и князь Голицын. Государь, начиная лакомиться яичком всмятку, осведомляется.
Александр: Какие новости? Наконец – схватили Шульмейстера?
Санглен (сухо): Увы. Как в воду канул. Про него говорили, что это клоун с тысячью лиц, так что нынче он может быть где угодно!
Елизавета (с ажитацией): Боже, среди нас прячется отравитель! Алекс, ты должен посулить особую награду за его голову! Я вся дрожу!
Александр (успокоительно беря жену за руку): Не бойся, душа моя. Наша охрана утроена. (Задумчиво) Однако же – какая жалость, если вдруг такой артист редких ядов, такой талант пропадет зря! Бонапарт от него отказался, дядя мой на несчастного охотится нынче с собаками. Может быть, стоит оказать ему посильную помощь? Хорошие отравители просто так на полу не валяются!
Голицын (угодливо): Золотые слова, мин херц, золотые слова! У китайцев есть любопытная поговорка: «Нет в мире яда, который не мог бы быть и лекарством. И в мире нет лекарства, которое не могло бы убить!»
Александр (задумчиво): Всякий раз, Сандро, ты своими словами мне будто шарады загадываешь! (Чуть пожимая плечами): Не то чтобы я был против – за твою способность и озадачить меня, и успокоить я тебя и держу. Однако что-то я не уловил в этом суть. Поясни.
Голицын (со смешком): Так что же тут объяснять? Любое дурное дело может быть для нас нужным, а любое доброе иной раз вредно. Китайская мудрость.
Александр (с напряжением в голосе): Сандро!
Голицын (лебезя и заискивая): А я что? Я – ничего! Просто раз уж иногда полезно спасение явного отравителя, не пришла ли пора остудить пыл наших людей, кои ловят изменников?
Александр (нетерпеливо): Про отравителя я твою шутку понял. Я не понял вторую часть – про изменников. Кого я обязан по твоему мнению останавливать?
Голицын (разводя руками): Кузен твой себя назначил в Москве самым главным и страшно там сейчас лютует. Всех, кто работал на оккупантов, – под белы руки и в Вешняки!
Елизавета (с интересом): И что же там в Вешняках? Небось очередные застенки да пыточные? Ах, как любопытно! (Мужу): Алекс, ты обязан меня сводить посмотреть на все это!
Александр (благосклонно): Обязательно, дорогая! Разглядишь все в подробностях. Говорят, что люди внутри весьма любопытно устроены.
Санглен (скучным голосом): В Вешняках не пыточные, а пруды. Земля щелочная с примесью извести. Любой труп в них к весне растворится.
Голицын (с ажитацией): Клевета, мин херц, настоящая клевета. Как природный москвич тебе доложу, что за зиму тело без остатка не растворяется. Посему место и называется Вешняки. Ибо там по весне раздутые «вешняки» плавают. А вот летом – иное дело! За лето известь-то свое дело делает! А зимой – никогда! Для этого тепло надобно! (С упреком глядит на Санглена): А еще преподаватель гимназии! Эх ты! Физика и химия! Во!
Елизавета (шокированно): Это что – такой русский обычай?! Я про то, как людей хоронят в пруду, ни разу не слышала!
Голицын (с готовностью): Да нет, не русский! Грузинский! Банда графа Кутайсова всю Рязанскую дорогу под себя забрала, ибо она вдоль реки, а по Москве-реке основные товары идут. А закапывать жмуров они ленятся. Вот и повадились спускать врагов своих в пруд. Это все потому, что сегодня кузен ваш в Москве именно на грузинских воров опирается. Они, видать, его надоумили пруды использовать!
Александр (задумчиво): Ай да Иван Палыч, ай да сукин сын! Не пропал же ведь граф Кутайсов. Я-то думал, что жив он лишь отцовскими милостями, а он, однако ж, крепкий старик… (С горечью): И зачем же я его выгнал? (Будто опомнившись): Это что ж получается, моя Москва, что ли, нынче в лапах бандитов?
Санглен (сухо): Боюсь, после того, что случилось в дни оккупации, у Бенкендорфа не было иного выхода. Вам, Ваше Величество, обращение москвичей к прочей Империи разве еще не показывали?!
Александр (с испугом в голосе): Нет, а разве было какое-то обращение? Сандро?!
Голицын (начиная что-то пыхтеть про себя и метая грозные взгляды на Санглена): Да ты понимаешь, мин херц, штука-то ерундовая. Когда Антихрист прибыл в Москву, он всем приказал подписать обращение, мол, «русский народ по гроб жизни верен французскому, и все наши беды лишь от того, что ты никакойный правитель, и все советники твои – немцы. А русский народ самый миролюбивый на свете, радуется приходу порядка и демократии и призывает всю прочую Россию – штыки в землю, разойтись по домам, не преумножать зла сопротивленьем бессмысленным». И все прочее…
Александр (серея лицом): И кто же это подписал? Небось либеральные пачкуны да сосланные поляки?
Голицын (разводя руками, со вздохом): Не совсем. Ну, либеральные пачкуны – это конечно. Вся московская профессура не просто подписала, а создала оккупационную администрацию, сидела в трибуналах да в расстрелах участвовала.
Елизавета (в шоке): В каких расстрелах?! Какая такая профессура?!
Санглен (сухо): Наполеон запретил участвовать в московских делах европейским следователям. Посему арестовывали и судили наших людей исключительно московские умники. А французы лишь вешали да расстреливали. Это и называлось русским самоуправлением.
Александр (ошалелым голосом): Ох, ё… (Решительно): Ну что ж, пусть тогда мой кузен во всем разберется со всей строгостью!
Голицын (жалобно): Но он… того… уже… Профессоров давно отвели в Вешняки. А еще всех лиц низкого звания. Пришел черед дворян. Нынче по Москве стон стоит, просят твоего Величества – сжалься!
Александр (сурово): И кто же эту ересь про меня подписал?! Кто из благородных семейств счел меня негодным правителем?
Голицын (начиная дрожать): Так ведь Антихрист – того… Обещал всем, кто подпишет, сохранить их землю, крепостных и прочую собственность. Так что там в подписях считай все Толстые да Долгорукие, Беклемишевы с Шереметевыми, а еще даже тетка моя подписала – старая княгиня Голицына… А всех их теперь по приказу твоего кузена Бенкендорфа…
Александр (судорожно сглатывая): То бишь все… Вся Москва… Ненавижу! (Нервно озираясь): И граф Кутайсов тоже это все подписал?
Голицын (судорожно): Иван Палыч-то? Он – нет. Во-первых, когда шло подписание, он запил, своих деток Сашку и Петра со всей силы оплакивал. А потом… У него же нет и не было ни земли, ни крестьян. Он с торговли живет – зачем ему льготы в Москве, когда его товар весь на Оке?! Вот и вышло, что и старый Кутайсов, и все абреки его оказались в Москве самые главные патриоты!
Елизавета (с нервным смешком): Боже, какая коллизия! Главный партизан по Москве немец Бенкендорф, а главные патриоты – грузинские воры Кутайсова… Алекс, ты не находишь сие занимательным? А ежели немец с грузинами вот-вот изведут по Москве всех изменников русских…
Александр (устало): Я понял. Репрессии в Москве прекратить. Все подписанты обязаны отказаться от любого имущества и немедля отправиться на фронт. А после победы всех в ссылку – в Финляндию, в Сибирь, на Кавказ, к черту лысому, а ежели угодно, то прогнать за границу, но я не желаю видеть никого из предателей. Однако нынешнюю вешняковую практику пора прекратить. (Чуть подумав): И я хочу лично поговорить и с моим кузеном Бенкендорфом, и (с замиранием голоса) с верным слугой моего отца графом Кутайсовым.
5 гПавильон. Осень. День. Тверь. Путевой дворец.
Кабинет Петера
Принц Петер Людвиг стоит за своею конторкою в кабинете и что-то подсчитывает. Стучат костяшки на древних счетах, скрипит перо, главный банкир Европы работает.
Осторожно приоткрывается дверь. Принц, не переставая считать, зорко глядит, кто пришел. В комнате появляется Марья Денисовна. Лицо ее беспокойно, глаза заплаканы. Принц складывает свои бумаги в папочку, убирает чернильный прибор и сухо спрашивает.
Петер Людвиг: Что-то произошло? Обычно ты не отвлекаешь меня от работы.
Денисовна (с опаскою): Что ты, Петенька… (Чуть помявшись): Тут такое дело… Боюсь, это может тебе повредить.
Принц Петер молча идет на диванчик для посетителей, садится, жестом приглашает Марью Денисовну присесть рядом и бормочет.
Петер Людвиг: Что ж, я готов. Выкладывай свою страшную новость…
Денисовна (жалобно): Ты понимаешь, у меня был первый муж – Каховский. Мы жили тогда в Могилеве, и он завел себе девку… Так я сразу же развелась, вот тебе крест, а он прижил с этой шлюшкой сынка. А потом дал ему свое имя.
Петер Людвиг (сухо): Весьма познавательно, но при чем же здесь я?
Денисовна (кусая губы): Этот мальчик, Петя, он вырос. Он получается сводный брат моего Лешеньки. И, соответственно, родня Раевским и Давыдовым. Дениска пару раз у нас оступился, но теперь и он тоже в фаворе.
Петер Людвиг (холодно): Переходи к делу. Столь долгое вступление пугает меня.
Денисовна (с отчаянием): Этот Петенька… Все чурались его! Его даже не взяли волонтером во Вторую столичную армию! И вот тогда он – со зла… Боже, я даже не знаю, как сие объяснить!
Петер Людвиг (жестко): Что с ним?!
Денисовна (с ужасом): Он был комиссар в московской оккупационной администрации! Ходил с красным бантом, служил в трибунале… Говорят, сам в казнях участвовал… А теперь его будут вешать.
Петер Людвиг (сухо): Да и черт с ним… Собаке – собачья смерть…
Денисовна (жалобно): Да как ты не понимаешь?! Он же, как ни крути, а брат моему Лешеньке! Самому начальнику Генерального штаба! А еще он кузен генералу Раевскому и даже тому же милому Дениске! А ведь Дениску уже подозревали в якобинских симпатиях. Дело же могут со всего этого такое раздуть, такое…
Петер Людвиг (задумчиво пожевав губами): А что я могу сделать?!
Денисовна (с надеждой): Так в Москве нынче всем заправляет твой племяш Бенкендорф! Может, ты сможешь просить его… Ну чтоб делу не дали ход…
Петер Людвиг (холодно): В отношении французского комиссара, члена якобинского трибунала и палача партизан?! Не думаю…
Денисовна (жалобно): Да я же не оправдать! Может, твой племяш его удавит по-тихому, и концы в воду! Главное, чтоб родню мою не позорили!
Петер Людвиг (сухо): Речь не только об этом. Речь о том, что гражданская жена у меня оказалась мачехой революционного комиссара и судьи-якобинца. Речь уже не только о твоей, но и о моей репутации.