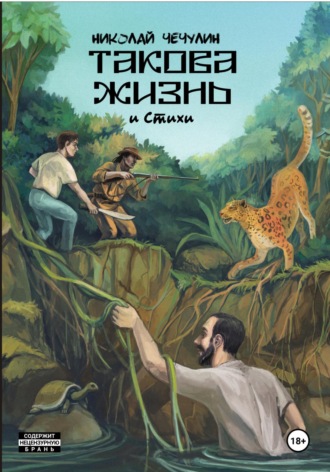
Полная версия
Такова жизнь
Старшие, подрастая, уезжали в город учиться или работать. Когда сестра Люба в свои пятнадцать лет уехала в Куйбышев Новосибирской области учиться в медучилище, она освободила мне, одиннадцатилетнему «мужику», место старшего в доме. Надо сказать, что детство помнится часто голодным, холодным, но насыщенным на события, вольным и вовсе не трудным. Казалось, что жизнь такая и есть, и другой она быть не может. Хотя мы видели, что в некоторых семьях, где оба родителя были живы, дети имели больше свободного времени и часто звали нас играть в лапту, в войну или на озеро. Но мы не всегда могли позволить себе это. Мы сами для домашних животных косили сено литовкой в лесу между околками, где колхоз из-за неудобья и малых размеров оставлял участки брошенными. Но для нас это лесное богатое разнотравье для заготовки сена казалось самым лучшим, особенно если оно вовремя скошено, высушено и сложено в стог. Зимой, когда мы давали сено корове, козам или даже поросёнку, душистый запах высушенных летних трав распространялся по хлеву, и сам двор как-то облагораживался. Косить сено – это физически очень трудная работа, и наши детские руки быстро уставали. Но случалось, когда колхозные косари, видимо, из жалости, проезжая мимо на обед или по окончании работы вечером, подкашивали нам пару кругов. Шли они на прицепных косилках в пять-шесть штук одна за другой, и это сразу давало нам большую прибавку к скошенному за день. Мы в знак благодарности набирали косарям в кустах смородины или тут же в траве землянику или грибы.
Осенью по первому снегу на лошади, запряжённой в сани, возили сено домой. А когда снегу становилось много и на лошади невозможно было по глубокому снегу пробраться к стогу, колхоз притаскивал стог целиком на тракторе, опоясав тросом.
Помню, однажды в начале ноября мы с братом Витей приехали в лес километрах в трёх от деревни за сеном и остановились у полевого стана. Запряжённую в сани лошадь поставили у специального длинного бревна, предназначенного для привязи коней во время сенокоса, когда их бывает до двадцати и более одновременно, а сами ради любопытства зашли внутрь покопаться в старых железках от разной техники, брошенных здесь за ненадобностью. Вскоре мы услышали ржание и громкое фырканье коня на опасность. Мы быстро вышли из дверей помещения и сразу увидели волка метрах в семидесяти от нас. Он спокойно бежал по снегу по протоптанной тропе совсем недалеко от стана, и по всему было видно, что он сытый и нападать на нас или на лошадь не собирается. В это время года волки ещё сыты. Тем не менее мы решили спугнуть его, может больше от страха. Мы забежали внутрь, взяли первые попавшие в руки железки и, выбежав опять на улицу, стали громко стучать ими, идя волку навстречу. Волк на мгновение остановился, как бы удивляясь нашему недружелюбию, повернулся и, не глядя на нас, спокойно рысцой побежал мимо. Конь успокоился, и мы, тоже слегка взволнованные встречей с диким животным, решили больше время зря не тратить и направились к небольшому копяку, у которого и планировали накласть возок сена.
Тут же я вспоминаю о другой встрече с волком в августе прошедшего лета, когда я ходил на куропаток. Барабинские околки, преимущественно состоящие из берёз, гостеприимно принимают в свои ряды редкие осины в окружении кустарников. Берёзы тогда уже начали золотеть, а осины резко контрастировали с берёзами гранатовым и бордовым цветами листьев. В тот день удача не сопутствовала мне, и я, дойдя до леса Бехтенской гривы, уже собирался поворачивать домой, как вдруг метрах в десяти от меня из-за кустов выбежал волк и остановился как вкопанный, подняв одну переднюю лапу, как это иногда делают собаки. Он был очень похож на моего пса Пирата, только тот был мельче, оставленного дома из-за его вздорного характера. Пират часто бывал непослушным, мог убежать далеко от меня и раньше времени вспугнуть птицу.
При виде волка мне ничего не стоило поднять ружьё и выстрелить в воздух, спугнув зверя. Но я тоже, как волк, стоял неподвижно и смотрел в его карие глаза на серой морде. Он постоял несколько секунд, показывая свою выдержку и независимость, затем медленно повернулся, пару раз оглянулся то через одно плечо, то через другое, словно раздумывая: надо ли ему ретироваться и не собираюсь ли я поднять на него ружьё.
Я, поскольку уже собирался возвращаться домой, тоже повернул к деревне. Не однажды оглянувшись – не передумал ли зверь уходить прочь? – я пошёл в противоположную от волка сторону, слегка испытывая мурашки по телу.
Встреча с волком произошла там, где в начале осени мы с Витей рубили сухие берёзы и осины на дрова и возили на бричке с высокими бортами, похожими на лестницы, чтобы лесины не сваливались с воза.
В начале зимы по окрепшему льду мы косили на озере камыш и, увязав верёвками, возили домой по льду на самодельных широких санках. Это дело было обязательным. Камыш использовали как для изготовления различных изгородей дворов, из-за дефицита пиломатериалов, так и для топки печи. Заготавливать камыша приходилось много, так как в печи он сгорал быстро. В летнее время мы делали кизяк, который зимой в печи горел очень хорошо, но не так быстро как камыш и давал много тепла. Кизяк делался из накопленного за зиму навоза от животных. Навоз укладывался в ограде огромным блином в диаметре метров пять, и толщиной сантиметров сорок – пятьдесят. Эту массу навоза поливали водой, добавив резаную солому, и месили лошадью часа два-три до превращения его в однородную массу. Затем полученный состав накладывали в специальную деревянную форму размером чуть больше кирпича, утрамбовывали ногами и выкладывали из формы на землю для сушки. Подсохший кизяк складывался в пирамиды, и после полной просушки его прятали от непогоды под навес. Вся эта ответственная работа по изготовлению кизяка длилась недели две, в зависимости от погоды. Иногда нам разрешали резать лопатой в кошаре овечий слой навоза, который тоже использовали для топки большой русской печи в долгую холодную зиму. Топили печь долго, тем не менее, старенький домишко плохо держал тепло, и под кроватями на стене, и в углах дома мы скоблили блестящее серебро измороси.
Обычным и обязательным делом летом для всех, включая малышей, было собирание ягод, грибов и других всевозможных даров природы не только для повседневной еды, но и для заготовки на зиму. Охота и рыбалка – это отдельная история. Это было нечто из разряда увлекательных дел, которые мы исполняли не по обязанности, а по огромному желанию и с удовольствием. У нас были две лодки. Одна – алюминиевая плоскодонка, подаренная городскими охотниками за настрелянную для них дичь. Вторая лодка была деревянная долблёнка, которую мы нашли в камышах старой, дырявой и наполовину затопленной. Причём в лодке валялось чьё-то старое и ржавое ружьё. Поскольку деревенские мужики бесследно не пропадали, мы сделали вывод, что хозяин этого имущества был не местный и, скорее всего, утонул или ещё что-то с ним случилось. Не найдя хозяина, мы притащили лодку на свой берег и привязали к своему причалу на цепь. Заклеив все дыры и зашпаклевав швы, мы с радостью и гордостью пользовались ею, пока не уехали совсем из деревни. Дичь и рыбу, которую мы добывали, вялили и солили на зиму. Вяленую подвешивали в мешках, а солёную хранили в бочках. Как правило, к концу февраля все запасы в кладовке заканчивались, и мы переходили на подлёдный лов. В этом деле трудным было только долбить прорубь пешнёй и поддерживать её не замерзающей. Прорубь должна была быть шестьдесят – семьдесят сантиметров в диаметре. Толщина льда за зиму порой достигала одного метра, в зависимости от морозов. При большой толщине льда одну прорубь иногда долбили часа три-четыре. Сама ловля рыбы была интересной и азартной. На проволочное кольцо натягивалась мерёга (сетка). От кольца кверху шли три-четыре стропы, которые заканчивались одной более крепкой верёвкой. Чем толще лёд на озере, тем меньше оставалось воды, и рыба начинала испытывать кислородное голодание. Мы спускали в прорубь сачок, рыба, изголодавшаяся по воздуху, минут через пять – семь накапливалась в проруби и жадно глотала воздух. Нам оставалось только аккуратно, не вспугнув её, быстро выдернуть сачок из воды уже с рыбой. Добыча иногда была до десяти штук зараз. Тех рыб, что были мельче, мы отпускали. За полдня добыча иногда составляла ведро и больше. Такой рыбалкой, как правило, мы занимались в воскресенье, и рыбы нам хватало до следующего выходного. Конечно, на ветру было холодно, шуб и тулупов у нас не было. Фуфайка была излюбленной одеждой, а что такое шарф, мы не понимали. С началом зимней рыбалки мы строили возле проруби укрытия из снега высотой до полутора метров, нарезая пилой снежные блоки. Для крепости стен кладку обливали водой. Идя на рыбалку, всегда брали с собой хлеб и соль. Как только пойманная рыба замерзала, в основном это были окуни, мы, срезав верхний слой шелухи и плавники, нарезали рыбные пластинки, клали на нарезанный хлеб, солили и, давясь слюной, уплетали эти бутерброды. Правда, такого слова мы тогда не знали. За зиму мы с братом сами вязали две-три новые сети, которыми уже со второй половины мая ловили рыбу с лодки. Кольца – грузила сетей – мы делали из проволоки, а поплавки свивали из бересты берёз, коих в лесу было достаточно.
Осенью на открытие охоты к нам в деревню приезжали разные охотники, даже прилетали на вертолёте и на одномоторном самолёте, который садился на плотном грунте озёрной песчаной отмели. Сбегалась вся деревня, не только ребятня. Как-то летом моего старшего брата Володю взяли в вертолёт, чтобы он показал лучшие места охоты. В деревне мы славились удачливыми рыбаками и охотниками. На Вовку мы смотрели с завистью. Но, вернувшись из полёта и уже выйдя из вертолёта, он коротко сказал: «Не понравилось, сильно трясёт и страшно». Ему было четырнадцать-пятнадцать лет.
Приехавшие на охоту располагались кто в палатках, а кто в стогах сена или в скирдах свежей соломы. Вскоре многие из них оказывались выпивши, и им было не до охоты. У них была своя радость. Мы же ловили рыбу сетями от трёх до пяти вёдер каждый день. Поставив сети вечером, утром мы уже снимали их и вывязывали рыбу. Всю рыбу передавали охотникам свежей или пластали её и тут же солили: клали в довольно большие углубления в песке ближе к воде, перекладывая солью, ограждая от стен камышом. Чтобы рыба от солнца не нагревалась в яме, тщательно накрывали сверху камышом. Перед возвращением домой охотники с удовольствием брали у нас и свежую, и солёную рыбу, которую мы выполаскивали в чистой воде и складывали в мешки или вялили, разбросав по траве.
Что касается озёрной дичи, то мы её настреливали каждый день по десять – двадцать штук. Иногда, как мы выражались, в «утиный год», было черно от гагар, особенно на озере Писарева. Это озеро было богато растительным кормом, так что по нему нельзя было плавать на лодке с мотором. Винт заматывался крепкой травой, росшей с самого дна озера. На своей долблёнке на вёслах мы особенно легко добывали чернедей, чирков и гагар-лысух, у которых мясо было диетическое, как у кур. Охотиться мы любили именно на озере Писарева. Плывя по ветру, почти не работая вёслами, мы постепенно притесняли птицу. Через некоторое время чернеди взлетали вертикально, и стрелять их было сложней. А гагары взлетали, разбегаясь против ветра, как самолёт, то есть нам навстречу. По-другому гагара не взлетает. В таком случае промахнуться было трудно.
Достаточно много дичи мы отдавали охотникам. Мы с удовольствием обслуживали их. Они, в свою очередь, не скупились на провиант. Капсулы, порох, дробь, пыжи, чучела, профили на гусей – всего этого у нас было в достатке. Мы были счастливы! У охотников мы не спрашивали об их счастье. Думаю, что они время потратили не впустую. Ведь все цели достигнуты: провиант использован, а дичи и рыбы полная кошёлка. А удовольствия от общения с природой каждый получил по мере своего аппетита, вкуса и количества спиртного. Каждый год нашего детства – это целая череда различных историй, которые вспоминаются как повесть о жизни детей, попавших в почти дикие условия существования и выживания.
Когда шёл мне шестнадцатый год,Со мной август прощался в миноре —Срок пришёл разбирать старый плотИ покинуть охотничьи зори.При костре, тычась в темь, камыши,Как молитвы, мне шёпот дарили,В небе клёкоты были слышныТех, кто гнёзда на озере свили.Я наутро раздал провиантИ охотничьи тульские ружья,Лишь собаку по кличке ПиратНе велела предать наша дружба.Он ходил всё за мной по пятам,И плескалось в глазах его небо,Он скулил по любым пустякам,А под вечер не съел даже хлеба.Я себе и представить не мог,Что мне в городе делать с собакой…А Пират всё под тучею мок,А наутро он сдох под корягой.И осенний рыдал небосвод,И собаки – не дети ли? – выли,Я свершил с ним последний поход,Схоронив за погостом в могиле.В конце августа 1963 года я уехал учиться в город Барабинск. Живя в общежитии, я сначала был совершенно потерян, и моя жизнь утратила привычный ритм, обязанности и смысл. Жить стало скучно. Учёбу в железнодорожном училище, куда я поступил, серьёзным или трудным делом я не считал. Но постепенно меня захватило совершенно новое и интересное направление знаний – металловедение. А из-под наших рук выходили готовые настоящие, закалённые по всем правилам науки плоскогубцы, молотки, стамески, лекальные линейки и другие поделки. А сама наука открыла неведомые ранее подробности структуры и свойства металлов, их легирующих элементов. Нам было интересно всё: от загадок кристаллической решётки до свойств атомов и цветов побежалости во время термообработки, дающих получение необходимых физических свойств.
К концу первого года обучения мама с двумя моими братьями и сестрой уехали из деревни жить в Новосибирск. Там всей роднёй собрали деньги и, как я уже рассказал, купили тот самый маленький домик.
Закончив в Барабинске железнодорожное училище и получив высший разряд слесаря-инструментальщика, какой только могли дать тогда выпускникам, я решил ехать в Новосибирск, где теперь уже жили все члены моей семьи. Там я поступил на завод «Сибтекстильмаш», который и дал мне старт в новую жизнь. А пока я ещё в Куйбышеве Новосибирской области на заводе «Автозапчасти», куда был направлен после выпускных экзаменов, быстро проел последнюю семирублёвую стипендию, зарплату ещё не заработал и перебивался подработками на товарной станции, где платили в конце каждого дня. Старенькая добрая хозяйка дома, где я снимал комнату, умерла. Пьяница сын со мной не церемонился и уже на следующий день после похорон выгнал меня. Несколько дней я ночевал на крыше его сеновала, до первого дождя. Испортившаяся погода окончательно подтолкнула меня ехать в Новосибирск.
Я нашёл в Барабинске моего младшего брата Витю, гостившего у маминого сводного брата дяди Симы, и мы решили ехать домой вместе. Не имея денег на билет, мы ходили вдоль вагонов и пытались договориться с проводницами проехать без билета. Но оказалось, что таких, как я, было много. Окончив различные барабинские училища, выпускники разъезжались по своим родным станциям и сёлам. Нам отказывали, ссылаясь на ревизоров. Ничего другого не оставалось, как ехать на крыше вагона. Когда двери пассажирского вагона закрылись и поезд тронулся, то на крышах уже сидели кучками молодые ребята, в том числе и мы с Витькой и двое одногруппников – Антонов и Семёнов, ехавших в родной Чулым.
Было начало июля, и погода стояла замечательная. Встречный ветер раздувал рубахи и срывал фуражки. Постепенно привыкнув к скорости, мы испытывали азарт и даже играли в карты, прижимая их коленями и локтями. Наигравшись и подарив часть карт ветру, мы бегали по крышам, перепрыгивая с вагона на вагон, наклоняясь, чтобы не зацепить головой контактный провод. Беспокойство доставляли стрелки, на которых вагоны раскачивало, и была опасность свалиться вниз, но мы их видели издалека по изгибам передних вагонов, для чего определяли одного смотрящего. При подъезде к станции Чулым – это на полпути до Новосибирска – пришлось слезть с вагона, так как по перрону ходили милиционеры и обходчики, проверявшие техническое состояние тормозной системы. Через полчаса поезд тронулся, и из-за наличия тех же милиционеров на перроне мы побоялись залазить на крышу вагонов.
Дело шло к вечеру, становилось прохладно, а ехать как-то надо было. Мы перешли на соседние грузовые пути и, выждав, когда следующий товарный поезд тронется в сторону Новосибирска, забрались на тамбурную площадку. Конечно, это не пассажирский поезд, но мы всё-таки двигались. На скорости пустой вагон изрядно трясло, качало, и летела в глаза оставшаяся в вагонах угольная пыль. На станции Обь, что в десяти километрах от Новосибирска, поезд остановился. Мы решили сбегать на вокзал попить и сразу наткнулись на милиционера, который буквально схватил нас за рукава. И только тут, при вокзальном освещении, мы, посмотрев с братом друг на друга, увидели, какие чумазые наши лица. Сдержав смех, на вопрос милиционера я нашёлся и соврал, что мы разгружали бабушке уголь в углярку, а сейчас едем домой к маме, назвав новосибирский адрес. Милиционер, очень высокий и худой, с добрыми глазами, махнул рукой и сказал: «Идите». Когда товарняк тронулся, мы опять заскочили на площадку вагона. Когда поезд выезжал со станции, он повернул с прямого направления направо, в сторону станции Инская, но это нам было не по пути. Пришлось спрыгнуть на ходу. До дома оставалось ещё километров шесть-семь. К двум часам ночи, усталые и голодные, мы доплелись по полутёмным улицам домой. Мне было тогда семнадцать лет, а Виктору – шестнадцать.
С тех пор прошло восемнадцать лет. Теперь я приехал к маме из очередной командировки, но уже не «зайцем», с чистым лицом и с другим жизненным багажом. Мама бодрилась, глаза её светились добром и радостью. Она всегда была внимательна к людям, и у неё постоянно был полон дом гостей, и не только родственников. Кому-то она сочувствовала в их бедах, кому-то давала советы, а кого-то угощала кормёжкой. Мама стряпала очень вкусные, пышные пироги с ливером, картошкой, луком и яйцом, зеленью или с разной ягодой из варенья. И на этот раз, когда я приехал без предупреждения, у мамы оказались мои любимые пироги с луком и яйцом домашних кур, которых держали как последнюю частичку прошлой сельской жизни. После долгих разговоров за полночь я хорошо выспался, как это всегда бывает дома после долгого отсутствия.
Глава 8. Предощущение разрушения Берлинской стены и своей семьи
Наутро я появился в, святая святых – Новосибирской телестудии. Режиссер Ерназарова Раиса Мулдашевна встретила меня в своём небольшом кабинете и как раз разговаривала о завтрашней съёмке на заводе.
Она положила трубку, и я назвал себя. Она живо встала и, улыбаясь, протянула мне руку для приветствия:
– Здравствуйте, Жуков. Я думала, вы убелённый сединой мужчина, а ты ещё, по сути, юноша, – перешла она на «ты». Она была средних лет, хорошо слажена, с восточными глазами на приятном лице и открытой улыбкой.
– Спасибо, Раиса Мулдашевна, за «юношу», но я уже давно перевалил за возраст Христа, и мне давно, наверное, заготовлены гвозди за мои грехи.
– Не кощунствуй, Христос страдал не за свои грехи, а за искупление грехов всего народа. А ты, если сильно нагрешил, зачем согласился сниматься? Мне ведь в фильме нужны достойные герои, каких я уже многократно снимала.
– Значит, я из тех грешных претендентов, которым везёт, и они всегда случайно попадают в какие-либо интересные истории, будучи тайным грешником. Кто признаёт свои грехи добровольно, покажите мне пальцем. На первый взгляд все хороши, а покопаться…
– Но начальство назвало тебя в качестве главного героя по экспорту. А это значит, что мне предстоит открыть твои грехи во время съёмок. – И она по-девичьи засмеялась. – Кстати, ты привёз какой-нибудь план съёмок в Германии?
– Да, согласно вашей телеграмме, я набросал географию съёмок по республике и список тех немецких товарищей, которые согласились участвовать в съёмках. Предварительно со всеми согласовано. – И я передал ей несколько листов на скрепке.
– Хорошо, я почитаю позднее, а сейчас нас ждёт оператор – кое-что запишем. И ещё имей в виду, завтра будем снимать на заводе, никуда не пропадай. Своим коллегам я заказала пропуск.
Она завела меня в гримёрную, где совсем молоденькая девушка мягкой кисточкой пощекотала моё не привыкшее к подобным ласкам лицо и с придыханием спросила:
– Как там жизнь за границей?
Я улыбнулся в её невинные глаза и так же таинственно ответил:
– Дома значительно лучше.
Её глаза сделались серьёзными и недоверчивыми.
– Вы даже не представляете, насколько дома лучше, – добавил я.
– А я хочу за границу, – серьёзно выговорила она и открыла мне дверь.
Она проводила меня в зал с аппаратурой для просмотра отснятого материала, где ожидала Раиса Мулдашевна.
Десять минут она ещё «разговаривала» меня, и там же мы попили чай. Затем я ответил на подготовленные ею вопросы. Через полчаса официальная часть закончилась. Раиса Мулдашевна к тому времени была уже опытным и авторитетным режиссёром. Она была замужем за известным новосибирским режиссёром Ю. А. Шиллером, который в то время был на съёмках где-то на Севере. Зато меня познакомили с поэтом и композитором, работавшим на телестудии, Борисом Мурашкиным. Уже втроём мы проболтали несколько часов, и мы с Борисом почитали свои стихи. Перед расставанием Борис предложил послушать его новую оригинальную музыку. Музыка и произвольная часть нашей встречи доставила удовольствие большее, чем сами съёмки интервью, имевшие официальный регламент.
Следующие несколько дней я занимался на заводе разными делами. Выяснилось, что одна из новых моделей ткацкого станка недостаточно надёжно работает в четырёхцветном режиме, которые предстоит поставлять на экспорт. Я получил задание на изучение именно этого момента на станках конкурента.
Незадолго до отъезда я повстречался со старым другом Владимиром Модестовым, с которым по молодости работали на заводе вместе и дружили семьями. Он пригласил меня домой, пообещав сюрприз.
Вечером дверь в квартире Модестова открыла статная блондинка с короткой причёской, с добрыми голубыми глазами. Я был некоторое время в растерянности, думая, что ошибся адресом.
– Лидия, – сдержанно улыбаясь, представилась женщина. – Проходите, я жена Володи, и я и есть тот самый сюрприз, о котором он вам говорил. – Лидия подала мне альбом с фотографиями со словами: – Любовь круто изменила наши судьбы. Ничего нельзя было поделать. Я ведь тоже была замужем. Правда, детей не нажила. А у Володи это больное место – первый его сын Димка остался с мамой.
Вскоре дверь открылась, и зашёл Владимир с маленьким мальчиком на руках:
– Знакомься, Николай, это Владимир Владимирович, мой второй сын.
Мы поприветствовали друг друга.
– Везёт тебе, Володя, опять мальчик.
– А как твоя семья?
Мы вошли в зал, где уже был накрыт стол, стояла бутылка вина и вкусно пахло.
– Анжелика учится, у неё всё хорошо. С женой, в принципе, всё нормально, но есть разногласия по политическим вопросам. Она – за «жёлтых», я – за «зелёных».
– Где вы нашли такие партии?
– Партия одна – идеологии разные, они порой и разносят нас на разные полюса.
– Знакомо, знакомо. Я, как видишь, круто поменял свою судьбу. Лидия моя – художник по костюмам в театре, там и познакомились. И я теперь там же работаю, руковожу электротехническим цехом. Домой из командировки скоро вернёшься?
– Если всё будет нормально, то в мае. Но обстоятельства могут сложиться так, что и сам не знаю, когда.
– Очень интересно, конкретно и загадочно. Что, так плохо?
– Да, в общем, неплохо, я бы сказал, в рамках человеческих интриг, нечеловеческих правил. Там особый котёл, где из нормальных людей делают нечто не похожее на то, что делали родители, школа и даже улица. Всё зависит от того, кто ты сам и насколько податлив на соблазны.
– Возвращайся домой. Я вижу, у тебя-то твёрдости не убавилось, хоть по Виккерсу проверяй. У тебя и на заводе было всё неплохо.
– Понимаешь, при всех недостатках работы за границей там интересно. Познаёшь новый мир, новых людей, в том числе иностранцев, что особенно интересно, а на их фоне познаёшь и себя, не имею в виду себя лично. Да и зарплата неплохая, знаешь ли, дело немаловажное. Там изнутри видишь происходящие события и несколько по-другому оцениваешь, чем, если бы их пытался понять со стороны – из дома, например. Не только какие-то простые, бытовые или деловые, но особенно те, которые отвращают своей нечистоплотностью. Для московских чиновников, по крайней мере там, где я работаю, человек из глубинки – это помеха в некоторых делах. В политике, хотя напрямую она меня не касается, дела ещё более непредсказуемы. Я уже сейчас могу сказать, что надвигаются такие события, которые, как огромные тектонические сдвиги, могут разрушить весь сегодняшний ландшафт жизни. Результат будет непредсказуем. Это не выдумка. В ближайшее время, например, ГДР будет сдана западным немцам.



