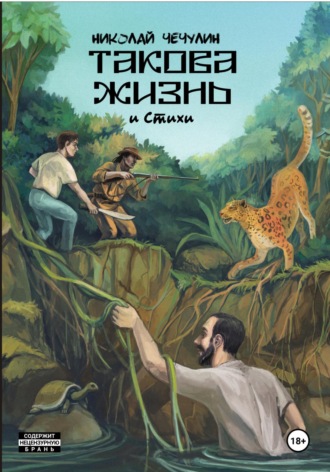
Полная версия
Такова жизнь
Тут шеф как-то оживился. Правда, он негативно высказался о современных поэтах и задал мне вопрос, похожий на домашнюю заготовку:
– Чем отличается поэт Баратынский от поэта Барятинского?
В тот период увлечение Евгением Баратынским для меня было пройденным этапом. Так или иначе я был знаком с творчеством и Александра Петровича, декабриста и моего земляка – сибиряка Барятинского. Об этом я ему и сказал. Шефа интересовала причина моего увлечения поэзией, которую я иногда декламировал коллегам. Я сказал, что не знаю. Просто мне интересно, а о цели я не задумывался. Ну, может быть, когда-нибудь издам сборничек стихов. Не удовлетворившись ответом, он уверенно заявил, что я это делаю из амбиций – намерен выделяться среди людей своего круга.
– Я ведь тоже в юности увлекался стишками, и даже казалось, что это на всю жизнь, – сказал шеф. – Потом как-то юношеские порывы стали сталкиваться с реальностью жизни, в которой всё не только проще, но и по-другому. Надо быть пастухом или вечным студентом, чтобы витать в облаках и не поступать так, как этого требует жизнь. Быть поэтом, то есть быть возвышенным, и тут же жить в этом человеческом грешном мире просто невозможно. Надо чем-то поступиться.
«Ого, – подумал я. – Так он всё отлично понимает. Просто сознательно избрал именно такой путь».
– Иначе жить нельзя, – как бы подтверждая мою мысль, спокойно сказал шеф. – Быть идеалистом – это грустная утопия. Путь в никуда, а жить бедным неудачником – это унизительно.
– Так, может, вам всё-таки попробовать продолжить заниматься поэзией, придерживаться определённых ценностей? – предположил я.
– Ты меня не слышишь. Ты наивный человек. Жизнь надо принимать такой, какая она есть. Юношеские ценности эфемерны, и они не кормят человека, – с уверенностью сказал шеф. – А поэзия – это детская забава, если нет дара. Она всегда сомнительна, и её не все понимают. Покажи мне хоть одного состоятельного поэта, кроме тех кого государство поддерживает. Тогда зачем всё это?
– Но ведь и я принимаю жизнь с её реалиями и не бросаю поэзии, – сказал я.
– Ты ошибаешься. Ты не понимаешь, что жизнь неповторима, или делаешь вид, что не понимаешь. Ты не пользуешься ею, ты борешься с ней и скоро сломаешь крылья.
– Я не борюсь с жизнью, и она для меня представляется прекрасной, хотя порой бывает трудной и жестокой. Я только не принимаю ту её часть, которая мне не нужна, которая может мне сильно навредить и которая для меня противоестественна. А поэзия никак не мешает моей жизни. Наоборот, она как-то незаметно идёт рядом и даже помогает в некоторых моментах жизни, – пояснял своё понимание я.
Мы долго молчали. Когда я открылся, мне стало легче: я как будто надел на себя защитную броню.
Глава 5. «Дружба по интересам», или Правда аксакала?
Посещение текстильных предприятий прошло без проблем. Пунктуальные немцы были готовы по всем вопросам, которые я согласовал с ними по телефону. В Грайце, где станки работали уже много лет и всё было в порядке, директор Грин с радостью согласился поучаствовать в съёмке документального фильма.
На предприятиях шеф был обаятелен, улыбался и много шутил. Обещал различную техническую помощь, обучение и консультации. Подробно рассказывал о создании на базе «Техцентра» в Берлине многоцелевого склада запчастей с демонстрационным залом, не забывая при этом отметить и свою роль. Было видно, что шеф себе нравится. Он был доволен результатом поездки, всё прошло как по маслу, и казалось, что червячок его навсегда отравлен этими положительными эмоциями. Однако я понимал, что система, существующая во внешней торговле, не позволяла своим людям забывать об их выгоде и как бы изначально подталкивала и обязывала их параллельно с основной работой (а может, даже в первую очередь) иметь в виду, планировать и реализовывать цель по добыче для себя материальных ценностей в недрах государственного имущества и не только. Эти деньги, вещи, блага, взятки – как цель, средство и инструмент – являлись связующей массой всей внутренней структуры ведомства, его кадровой политики и неискренней человеческой «дружбы», больше похожей на круговую поруку. Я ожидал, что рано или поздно шеф опять начнёт приманивать меня прикормом в свои сети. Он не волен быть другим.
В день возвращения в Берлин проснулись позже обычного. Душ и завтрак, больше похожий на обед, отняли много времени. Вчерашнее хорошее настроение шефа, которое у него возникло на предприятиях, испарялось под яркими лучами восходящего солнца, светившего в большие окна номера. Долгое время молчали. Мы вырулили на Берлин, в данном случае домой, а тайный беспокойный червячок шефа требовал движения по направлению беспокоящих его мыслей.
– Николай Степанович, ты неплохо работаешь, в чём-то ты даже талантлив, но ты ошибаешься в своём идеализме. Весь мир устроен по-другому: рука руку моет. Или важна дружба по интересам. Это в конечном счёте приносит радость, если заглушить наивные душевные переживания. Твоя поездка в Новосибирск продлится дней десять. У тебя будет достаточно времени для обдумывания. Не советую тебе с кем-нибудь обсуждать наши с тобой разговоры. Тебя не поймут, потому что в «Техстанкоэкспорте» работают все мои друзья. Все. Ты и люди твоего завода, имеющие отношение к экспорту, зависят от моей фирмы. А ты, если всё правильно поймёшь, на десятки лет обеспечишь себе поездки за границу, в том числе и в капстраны. А это и деньги, и положение. Об этом многие и не мечтают даже. – После этих слов шеф замолчал до самого Берлина.
Помню, ещё задолго до работы в Германии, когда в Новосибирске я подавал заявление для участия в конкурсе претендентов на подготовку специалистов для работы за границей, то наивно полагал, что уж в Москве люди, условно говоря, на голову выше, умнее нас, грешных крестьян, и что на них, как на трёх китах, держится вся страна. Я оказался невеждой и идиотом. Просто у нас жизнь разная.
Однажды произошёл случай, который помог мне ещё более укрепиться в своих убеждениях. В первой командировке в 1979 году я представлял на международной ярмарке в Лейпциге наше оборудование. Вечером накануне завершения выставки кавказские представители сельскохозяйственных фирм и колхозов пригласили участников выставочных стендов отведать разные пищевые образцы – не везти же их обратно. В зале за одним длинным столом сидели человек тридцать некоей единой общностью. Было всё вкусно, о чём и был довольно длинный разговор. Выпивали просто за успех. Говорили о жизни, и каждый рассказывал о чём-то своём. Среди нас было четверо москвичей – представителей внешнеторговых объединений. Постепенно они перехватили внимание и, подавляя авторитетом, рассказывали о своих успехах, о связях с высокопоставленными особами в Москве, у кого эти авторитеты значительнее, и всё в таком духе. Абсолютное большинство присутствующих были из глубинки и вынуждены были молча слушать. Радужная всеобщая картинка больше не складывалась, более того, росло непонимание и отчуждение.
– Как же вы, дорогие москвичи, далеки от реальной жизни людей. Ведь уже достаточно много времени вы только и говорите о вещах, которые не для этого круга. У людей из остальной страны совсем другая головная боль, другие понятия о жизни и добре. А то, чем вы гордитесь – ваши элитные друзья и прочее, – это ложные ценности. Хотя очевидно, что для вас они самые важные, – спокойно произнёс я.
На некоторое время повисло тягостное молчание. Я понимал, что бросил вызов ребятам, которым палец в рот не клади. Я и сам не понимал, зачем я это сказал. Но слушать то, что они так решительно декларировали, мне было неприятно.
И тут поднялся в национальной кавказской одежде, в высокой папахе, с белой бородой пожилой горец – настоящий аксакал – и медленно, волнуясь, как бы понимая важность и необходимость именно сейчас выразить то, что хотел выразить давно, сказал:
– Я предлагаю выпить за этого человека. Всё, что он сказал, это правильно. Радость жизни – это не только обманчивые достижения и лукавые веселья. Счастье – это труд, который делает человека человеком. В труде, в лишениях, в невзгодах закаляется человек. Это как необходимое средство для жизни и самосохранения. Счастье – это когда проснулся утром и знаешь, что в семье никто не болеет. А значит, надо идти работать, чтобы стол не был не пустым. Дети растут, почитают меня. Я счастлив оттого, что знаю: вырастут, будут добрыми людьми. А вы возвышаете себя чужими авторитетами, и вы в этих связях несвободны. Вам надо много, и всё больше и больше. Вы в плену у этой бесконечной унизительной зависимости. И чем больше удалось нечестно добыть – не так, как старатель на прииске, не так, как Толстой в труде или учитель в школе, – тем больше вы себя считаете доблестными людьми. Вы себя противопоставляете обществу и не знаете этому границ. Мой отец говорил: создал честным трудом, сотворил достаток сам для себя – ты счастливый человек. Поделился с нуждающимся, защитил семью, друга, Родину – тогда ты доблестный человек. Так было всегда и до революции, когда были хозяева частной собственности. Так есть и теперь в порядочных семьях, и так будет всегда, покуда все люди будут понимать истину и если вернут её как основу жизни. Но, как видим, не все в реальности этим правилом живут. Человечество создало законы, нормы морали и поведения для того, чтоб человечество не погибло в распрях разных понятий. Мой друг поэт Расул – вы его все знаете – говорит: продай поле и дом, потеряй имущество, но не продавай, не теряй чести человека… Вы, молодые ребята, видите людей своей среды и думаете, что весь народ такой. Нет, вот он, народ, сидит. Люди разные, очень разные, но их объединяет благое дело – необходимость честного труда. Они сейчас вас не понимают, поэтому молчат. Такие ваши дела, нечестные понятия – грех. Многие из вашего круга занимают свои должности не по знанию и авторитету, а благодаря связям. Я не говорю, что надо отречься от благ и красивой жизни. Но ваша изворотливость, неправедное возвышение может быть только до той границы, где начинаются честь, закон и мораль. Не перешагни греховную черту – и ты будешь уважаем и истинно возвышен. А вы правила своей системы навязываете всем. Происходит не только разделение и расслоение общества. Это вызывает желание у одних подражать вам, у других – от возмущения взять кол или другое оружие. То и другое опасно. Вы рискуете сломать себе шею. Извините, что говорил долго. Всю свою жизнь об этом думал. Я стар уже, и мне умирать скоро. Я рад, что смог это сказать вам, чужим людям, вслух. Может, кому-то это поможет лучше понять жизнь.
Каждый раз, когда вспоминаю того аксакала, мне всегда становится спокойнее и увереннее.
Глава 6. Спуск с облаков на землю
Мы вернулись в Берлин уже под конец рабочего дня. Я успел оформить и собрать все необходимые документы для поездки в Новосибирск. От коллег я получил заказ на селёдку, гречку, чёрный хлеб и прочие традиционные советские продукты, которых в Германии нет. Виктор Боголюбов попросил привезти струны для гитары. Сказал, что будет ещё до рождения приучать ребёнка к звучанию музыки, в том числе гитары. Я удивился тому, что так далеко до ожидаемого события люди могут продумывать действия, которые, по их мнению, могут привести к положительному результату.
Мои жена и дочь оставались в Берлине. Жена к тому времени работала в «Техцентре», а дочь Анжелика училась в посольской школе, куда на микроавтобусе возили всех советских детей, живущих в районе Панков.
В понедельник рано утром Виктор Боголюбов увёз меня в аэропорт Шёнефельд. Тогда у меня была хорошая привычка – ещё до взлёта уснуть и проспать весь перелёт. На этот раз у меня было интересное соседство – Валентин Зорин, политический обозреватель, возвращавшийся из ГДР. Он сидел на заднем от меня ряду с незнакомым мне мужчиной и удивлял не только меня, но и других пассажиров своей способностью бесконечно говорить. Он говорил о политике и жизни весь перелёт с перерывом на обед, просвещая окружающих. Я был рад такому интересному соседству. Какой бы темы он ни касался, чувствовалось знание жизни с её разнообразием нравов, правды, чести и лжи. Удивляла смелость его суждений, возможная при его авторитетном положении.
В самолёте, если я не сплю, люблю смотреть в окно во время взлёта и посадки, пытаясь почувствовать ощущения птиц и те, которые довольно часто бывают у меня во время сна. Увы, не получается, всегда мешает ощущение опоры под пятой точкой. Великий Да Винчи на заре развития технической мысли всё стремился избавиться от этого ощущения тяготения, пристраивал крылья к своему телу и телам сподвижников, и всё напрасно – только низвергался с высоты и ломал кости себе и своим помощникам.
О, гордый альбатрос!Свои порывы в небо я стремлю!К тебе! К тебе! И слёзМне не сдержать – так я тебя люблю!Слова великого мыслителя, олицетворяющие стремление человека к полёту тела и парению души. Мной, на этот раз, эти слова были обращены к Родине.
Ну что ж, в очередной раз мой самолёт спустился с синего полуденного неба на летнюю землю. Посадка была мягкой, и скоро нас выпустили на трап.
Перед выходом на трап я коротко, благодарной улыбкой прощаюсь с девушками-бортпроводницами, как будто именно от них в первую очередь зависело благополучное окончание моего полёта. Хотя они сами на сто процентов зависят от надёжности металлического «коня», которого я всегда тоже благодарю, постучав ладонью по арке выходной двери. Выйдя на трап, сразу чувствуешь свежесть воздуха Земли – этого бескрайнего элексира невероятного вкуса, которым невозможно досыта насладиться после полёта. А своенравный тёплый ветерок приятно щекочет открытые части тела.
Было приятно ощутить твёрдую почву под ногами и движение к дому, который часто всплывает в сознании в разных образах, когда находишься долго где-то далеко от Родины.
Пройдя пешком до стеклянного тамбура первой российской авиагавани – Шереметьево, мы прошли в здание аэровокзала, который встретил не очень приветливо. Было многолюдно, и от этого здание казалось тесным. Свободных тележек для багажа не было, а носильщики чуть ли не за пиджак хватали, предлагая свои услуги за немалые деньги. Родная реальность очень скоро своим всемогущим лассо остановила полет сентиментальной души. «Я дома», – сказал я сам себе.
До конца рабочего дня ещё было время, и я успел побывать в «Техстанкоэкспорте», затем в Минмаше на площади Ногина, где обменял загранпаспорт на общегражданский.
Уже в восемь вечера я ужинал в буфете гостиницы ВДНХ.
Рано утром на метро я доехал до городского аэровокзала, где уже сел на рейсовый автобус, идущий до аэропорта Домодедово. Когда я проезжал среди подмосковных лесов, которые в веках видели многие полчища иноземцев, у меня всегда в душе возникал трепет от чувств людей, встававших с оружием в руках плечом к плечу, а впереди их ждала только победа или смерть. Мне ничего подобного пережить не пришлось. Я, благодарный тем людям, ехал по дороге свободной страны с богатой историей, иногда противоречивой, идущей своим, отличающимся от других стран, путём. Судя по событиям, в которые я невольно вник за последний год, будущее нашей страны вновь виделось туманным.
Новосибирский аэропорт Толмачёво встретил тихими сумерками и провинциальным безлюдьем. На автобусе я доехал до площади Станиславского, где в старенькой двухэтажке, построенной ещё во время войны и давно подлежащей сносу, жила моя сестра Нина.
Глава 7. Одиннадцатилетний «мужик» – старший в доме
Нина, самая старшая из детей, бежала в своё время из деревни с семилетней дочкой Людой от мужа – алкоголика и изверга. Она всегда была жизнерадостная, улыбчивая, в деревне работала в магазине, где просто, вежливо и с улыбкой обслуживала своих покупателей. Но этого было достаточно, чтобы муж её Иван, будучи ревнивцем, напившись, гонял её и нередко бил. В деревне его все боялись за скандальный характер, за пристальный, суровый, немигающий взгляд бесцветных глаз. Он был высок, с большой, всегда лохматой головой, посаженной на крепкой шее. Своей головой он часто в драке пользовался, сбивая с ног противника. Когда он бывал сильно пьян, становился неуправляемым, и сестре приходилось заранее прятаться от него где придётся. Нередко он приходил к нам, ища сестру. А однажды он заявился к нам с ружьём и, дважды выстрелив по закрытым ставням, удалился. Очевидно, патронов, кроме тех что были в двух стволах, у него больше не было, и мы вскоре вышли на улицу. Я не знаю, боролась ли как-то власть с этим буяном, но однажды заезжие артисты пели на концерте в клубе частушки, в которых высмеивали Ивана-пьяницу. И неизвестно, сколько ещё могло это длиться, если бы однажды три брата по фамилии Гаар не посадили Нину с дочкой на грузовик и не увезли в Барабинск. Там двоюродные сёстры по отцовской линии купили ей билеты на поезд и отправили в Новосибирск.
Новосибирск тогда быстро развивался, строилось жильё для рабочих заводов, асфальтировались дороги, которые до сих пор были уложены пленными немцами брусчаткой. Нина без труда устроилась на работу на один из заводов и получила комнату. Через три года, когда мама с тремя младшими детьми приехала в Новосибирск, Нина уже могла помочь маме собрать деньги на покупку маленького домика на улице Гризодубовой, состоявшего всего из двух маленьких комнат. Но и этим все были счастливы. Нина всегда была маминой опорой в жизни.
От площади Станиславского мы с сестрой добрались до посёлка Южный на трамвае. Домик, который ещё до моего выезда в Германию был перестроен и расширен в два раза, теперь показался мне маленьким и убогим. Когда я проходил по дорожке у дома, постучал в окно и помахал маме рукой. Увидев меня с бородой, она не узнала меня и велела моей младшей сестре Людмиле запереть дверь на замок. Окладистая чёрная борода, которую я отпустил по приезде в Германию, превратила меня, как говорили многие мои друзья и родственники, в неузнаваемого человека.
Маме тогда было семьдесят два года. Несмотря на тяжёлую жизнь, она выглядела бодро и, как всегда, хранила сдержанную улыбку. Переехав в Новосибирск в 1963 году, она до семидесяти лет работала на хлебозаводе, перетаскивая лотки с хлебом. Оставшись без мужа, с восьмью детьми, она всю свою жизнь вынуждена была покорно делать всё необходимое, чтобы хоть как-то прокормить и одеть детей. Деревенские условия жизни были тяжёлыми, и она делала любые, часто непосильные мужские работы. Дома она сама шила на машинке «Зингер», вязала, подшивала валенки, вышивала и приучала всех детей делать эту работу. Тогда вся эта работа была для нас естественным делом.
Наш отец умер 11 апреля 1956 года, когда ему было сорок девять лет, а маме было сорок два года. Теперь я понимаю, какими молодыми они тогда были. Отец работал ветеринаром и обслуживал шесть деревень в округе. Мама в свободные от родов годы работала в колхозе, а в какие-то годы – санитаркой у отца. Он часто привозил домой ветеринарные инструменты, грязные пробирки после анализов у животных, которые мама и мы, подростки, помогали мыть в специальных растворах в огромных ваннах. Эти запахи креолина и другие ветеринарные запахи подолгу оставались в маленьком доме и в одежде. Отец был быстрый и горячий, но никогда не занимался дома с детьми уроками. Да и вообще все дети учились самостоятельно, помогая друг другу. Очень боялись, если родителей вызывали в школу. Иногда зимой отец привозил домой две-три большие щуки, которых мы разделывали, перекручивали на мясорубке и стряпали рыбные пельмени. Редко случалось, чтобы он что-то с нами делал на кухне. Он почти всегда был на работе, и мы его видели только по вечерам, и то не каждый день. Он часто помогал деревенским людям с обслуживанием домашних животных, нередко его угощали выпивкой. Когда он приходил домой под хмельком, был с нами веселей, чем обычно, мы его тогда не боялись и любили играть с ним, кататься на нём верхом. Никогда мы не слышали, чтобы мама ворчала на отца по поводу выпивки, но мы понимали, что это плохо. У мамы был покладистый характер, но, несмотря на то что к спиртному она относилась категорично отрицательно, мужу перечить не смела.
Беда случилась на работе на скотном дворе во время кастрации. Бык вырвался из верёвок и сильно ударил отца рогом в грудь. Ему предлагали лечь там же на нары, чтобы оказать помощь. Но он отказался и пошёл домой. По дороге он зашёл к Нине в магазин, попросил полстакана водки. Выпив, он смог дойти до дома, лёг в кровать, не раздеваясь, и, казалось, уснул. Мы сидели молча в рядок на деревянном синем диване, словно чувствовали, что происходит что-то выше нашего понимания. Мама была дома, и она сразу всё поняла. Она подошла к отцу, обняла его и приглушённо всхлипывала. В голос она никогда не плакала, словно боялась накликать ещё большую беду.
На кладбище все шли за гробом, шлёпая башмаками по весенней грязи. Нас, самых маленьких, везли в плетёном коробе на отцовой рабочей упряжке. Хоронили отца под ружейный салют как фронтовика 13 апреля 1956 года. Мне было семь лет. Младше меня были ещё два брата – Витя и Саша и сестра Люда. Старше нас из несовершеннолетних были ещё двое: сестра Люба, двенадцати лет, брат Вовка, четырнадцати лет. Брат Иван тогда уже служил в армии.
Сразу после смерти отца мы поняли, что такое жить без кормильца. Мамино здоровье из-за переживаний подорвалось. Она всегда была бледной, с синими губами, почти всегда лежала и не только не работала, но и дома ничего не могла делать. Каждый раз, когда ей становилось совсем плохо, её увозили за двадцать пять километров в соседнюю деревню Новоярково, где была больница. Лежащая на телеге на подстилке из сена мама была безучастной ко всему происходящему. Мы немного провожали маму по деревне, держась за телегу, успокаивали её, что дома справимся, и каждый раз не знали, привезут ли её обратно живой. Нам не говорили, что с ней. Так длилось несколько лет. Когда она бывала дома, приходила деревенская бабушка, которая маму лечила: что-то шептала, поила травами, ставила банки. Невольно в такой ситуации у всех детей появились свои посильные обязанности, и мы сами вынуждены были добывать пищу.
Когда мне исполнилось восемь лет, уже в том возрасте приходилось ловить рыбу, заниматься огородом. Подрастая, старшие работали в колхозе на взрослых работах, а мы с Витей летом уже работали на покосе. Во время сенокоса мы верхом на коне возили копны к стогу, подскребали сено. Хорошо помнятся скачки на лошадях, когда пронзительно звучно и долго разносился звук ударов по подвешенной рельсе, означающей, что пора на обед. Мы летели на перегонки к пристани озера, где купались в воде прямо с лошадью, спасаясь от назойливых паутов. Победителя скачек ждала традиционная дополнительная поварёшка супа. Я часто благодарил свою кусачую кобылу по кличке Луна, которая обеспечивала меня сытным обедом. Колхоз за работу деньги не платил совсем, а начислял трудодни. Трудодень – это условная единица, за которую начисляли от полутора до четырёх килограммов зерна в день, с выдачей осенью убранным урожаем. Помню, всё лето люди постоянно говорили о погоде, от которой зависел урожай. Будет хороший урожай – начислят больше зерна на трудодень.
Полученную за трудодни пшеницу мы привозили домой и складывали в кладовку. Каждый зимний месяц мы брали из кладовки по одному мешку зерна и на санках везли на колхозную мельницу, где его мололи в муку. Однажды приводной мотор, вращавший жернова, сгорел, и мельница долго не работала. Для нас это было серьёзным испытанием. Тогда нам приходилось больше ловить рыбы и выменивать у сельчан на другие продукты. Причём рыба оценивалась очень дёшево, что нам казалось несправедливостью. Государство выплачивало маме деньги только за потерю кормильца – двадцать пять рублей в месяц. Как правило, деньги мы тратили на самое необходимое: керосин (в деревне не было электричества), соль, спички, дрожжи на стряпню и т. д.
Электричество появилось, когда я уже пошёл в четвёртый класс. Каждый хозяин около своего дома должен был выкопать яму определённого размера для установки столба. Испытывая огромную радость от предстоящего события, мы, мальчишки, одни из первых в деревне выкопали яму у своего дома. К началу зимы в деревне появилось электричество. Это был настоящий праздник. Ничего более яркого и праздничного в детстве я не помню. Под строгим контролем старших мы по очереди включали или выключали свет дома. Баловство с выключателем не допускалось. Современные дети не понимают той радости, которую испытывали мы, пользуясь выключателем. Наконец мы смогли уйти от керосиновой лампы и чистки её задымленного стекла.
Так шёл год за годом, а мама по-прежнему нигде не работала, но постепенно её здоровье улучшалось. Всё чаще рано утром, особенно холодной зимой, сквозь сон мы слышали мамины шаги по дому, треск горящих дров в большой русской печке, чувствовали распространяющееся по дому тепло. Когда большая русская печь прогорала, мама загребала угли в одну сторону и ставила тесто в формах к поду печи. Через час по дому уже растекался запах свежего хлеба, который уже больше не давал уснуть, и мы перебирались на тёплую печь. Если мама стряпала ещё и блины, оладьи, пироги или просто лепёшки, она подавала нам готовые прямо на печь. Тогда мы осознавали, что значит здоровая мама, и всегда помогали, чтобы она не болела.



