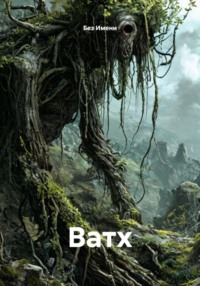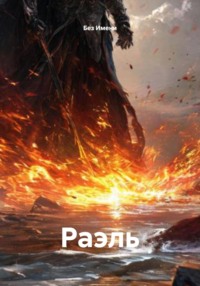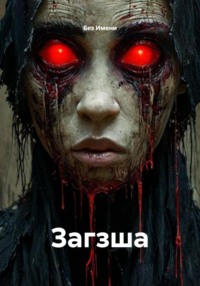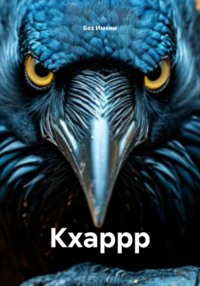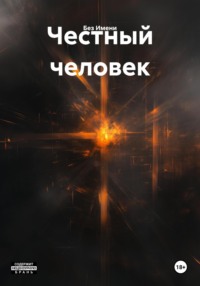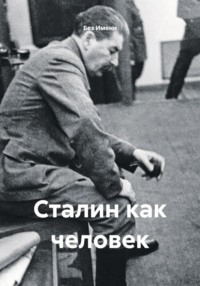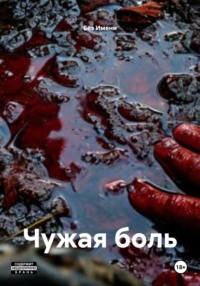Полная версия
Враг государства
Преступная романтика разбивается об уголовную действительность. Часто, рассказывая байки, люди хотят придать значимости своей жизни. Совершать преступления можно легко и даже весело. Но когда последствия приводят в уголовный мир, иногда неоднократно, происходит переоценка.
Допустим, тебе повезло: ты попал туда, где режим более-менее свободный, а братва сплоченная. Соблюдая правила, можно пересидеть срок. Но при любом режиме ты становишься живой мебелью. Тебе присваивают номер, и весь срок ведется учет твоего состояния. И, не дай Бог, поспорить с этим положением дел. Некоторых, особенно свободолюбивых, система перемалывает из мебели в развалину с самосознанием овоща.
Поэтому не торопись, не призывай. Уголовное – это наказание, а не образ жизни. Многие чувствуют себя там не так плохо, но это не жизнь, а выживание. Жизнь возвращается только с первым вдохом свободы.
Лучше занимайся образованием. Образованные люди нужны во всех мирах.
Дополнение: никогда не было установки, что со двора ты должен пойти исключительно в преступную жизнь.
28. Школа
Прекрасная пора, но осознаешь это, лишь покинув школьные стены. О младших классах скажу мало – не стоит подробно вспоминать, как учились читать по букварю или считать палочками. Перейдём сразу к 4–9 классам.
Тогда как раз ввели 11-летнее образование, и наш класс «перепрыгнул» из четвёртого сразу в пятый. Не катастрофа, конечно, но мы почувствовали себя старше – другим-то предстояло учиться на год дольше. Говорят, в Японии число 4 несчастливое – выходит, мы учились по японской системе. Смерти избежали, но не страданий.
Сейчас о советской школе говорят по-разному: кто-то её идеализирует, кто-то ругает за «зубрёжку партийной программы». У меня не было возможности прожить эти годы иначе, так что делюсь лишь своими впечатлениями.
Переход в среднюю школу принёс перемены. Если раньше все предметы вёл один учитель, то теперь у каждого – свой преподаватель. Появились новые предметы, включая иностранный язык.
Я не был зубрилой, но старался. Английский, правда, решил, что уже знаю – выучил алфавит и успокоился. Оказалось, не всё так просто.
В средней школе мне запомнились два учителя. Оба – заслуженные педагоги, оба готовили победителей олимпиад. Но подходы у них были противоположные.
Математичка заметила меня, пересадила с задних парт поближе и начала «вытягивать». Даже возила на олимпиады, но я оба раза завалил. В первый раз – потому что увлёкся одной задачей и перерешал её прямо в работе, за что мне сняли баллы. Во второй – просто растерялся и не успел. После этого меня больше не отправляли на конкурсы, но базу дали отличную. Позже, после переезда, я поступил в математическую школу – учительница там, поговорив со мной, сразу сказала: «Берём!»
Англичанка же сразу разделила класс на любимчиков и «отбросов». Первых сажала впереди, возила на олимпиады, остальных игнорировала. Я оказался среди вторых. На первом же уроке попытался ответить – она делала вид, что не замечает. На третий раз я спросил прямо: «Можно я отвечу?» Она нехотя разрешила, я ответил правильно, но получил тройку.
– За что? – возмутился я.
– За поведение! – и поставила двойку.
До завуча, впрочем, тройку в журнале не внесла. Разбирательство ничего не дало – она лишь скрепя сердце поставила рядом четвёрку, заявив, что «на таком уровне пятёрок не бывает». После этого она меня возненавидела: что бы я ни делал, всегда была тройка. Даже когда перестал вызываться, она специально спрашивала – и снова «три».
Но интерес к языку у меня остался. Особенно когда в доме появились зарубежные пластинки – сначала слушал просто как музыку, потом захотелось понять слова. Правда, до конца школы с английским у меня так и не сложилось.
Вот так в одной школе, в одно время, два учителя могли либо раскрыть потенциал, либо убить всякий интерес.
29. Технология
Надо сделать наше общение более продуктивным. Давай добавим небольшой образовательный момент.
Чтобы упростить понимание моих слов, нужно осмыслить, что такое технологии в общем смысле – по крайней мере, для меня. К такому определению я пришёл не сразу, но готов поделиться. Без этого понимания мои мысли покажутся пустой риторикой.
Большую часть жизни я хотел заниматься производством. Не получилось. Мне это нравилось с детства – вспомните судомодельный кружок. Увлекательный процесс: сначала осознаёшь, что хочешь создать, затем оформляешь план или эскиз, подбираешь материал, готовишь инструменты, и шаг за шагом материал в руках превращается во что-то новое. Это не магия, а труд. Твой труд, или труд с чьей-то помощью – не важно. Важно, что мы подошли к вопросу труда.
Отсечём лишнее: труд – это не работа! Работать, то есть воспроизводить осмысленные действия, может каждый. Чтобы не запутаться, обойдёмся без общепринятых определений – иначе стану заложником чужой теории. Работа – лишь форма труда, его часть. Если я надену форму машиниста, это не сделает меня машинистом. Но если мне покажут процесс, я смогу изображать его труд, а в некоторых случаях – даже выполнять его функции.
Для меня труд – это осознанная и упорядоченная деятельность для достижения цели. В детстве бабушка с дедушкой говорили: «Учёба – твой труд». Свойства труда: осознанность, приложение усилий, достижение результата и снова осознание. Усилия нельзя прилагать хаотично – нужен план, структура. В геометрии это отрезок: есть начало и конец. В философии – спираль: чтобы понять, какой результат нужен, мы должны осознать, что для этого требуется и в каком порядке. А то, что нам нужно и в каком порядке, и есть технология. Можно назвать это технологической картой.
Но на этом процесс не заканчивается. Следуя технологии, мы прилагаем усилия, получаем результат – даже если он отрицательный. Анализируем, меняем план и пробуем снова. Даже при успехе нужно вернуться к началу: результат должен быть осознанным, чтобы исключить случайность при его повторении.
Когда я это понял, то осознал: технология – не только производственный процесс, а любая осознанная деятельность.
На сложном: законы. Когда обществу потребовалось упорядочить отношения, появились первые законы. То есть законы – это технология регулирования общества.
На простом: зарядка. Человек осознаёт, что для здоровья нужны усилия, подбирает упражнения, оценивает результат и создаёт индивидуальную технологию поддержания формы. Иногда её можно унифицировать для групп с похожими целями.
На понятном: приготовление пищи. Здесь есть рецепт – чёткий набор ингредиентов, порядок действий и результат. Даже существуют книги с названиями вроде «Технология приготовления блюд».
Когда я это осознал, многое встало на места. Я перестал бояться некоторых слов. Поняв, что даже политические системы – всего лишь технологии, смог анализировать их и делать выводы.
О страшном: фашизм. Сейчас это слово звучит отовсюду, и кажется, нет ничего хуже. Но если воспринимать его как технологию, можно надеть «перчатки», изучить дистанционно. Видишь постановку целей, процесс их осознания – и понимаешь: есть глубинные, истинные цели, а есть декларативные. В открытом доступе – инструменты и результаты, которые миру не нравятся. Но технология остаётся в головах заинтересованных лиц.
Грех поменьше: диктатура. Древний римлянин сказал бы: «Это нормально – в тяжёлые времена Рим выбирал достойного, который диктатом выводил его из кризиса». Мысленный эксперимент: если бы такой технологии не было, что потеряла бы цивилизация? Не было бы армий – ведь нет единоначалия. Не было бы государств – нет централизованного управления. Люди не смогли бы строить города, потому что не организовались бы. Вывод: диктатура – нужный инструмент. Если применять её для созидания, общество оценит это положительно.
Шутка: если бы наша власть мыслила нестандартно, то во время военной операции ввела бы должность военного диктатора – только без совмещения постов. В эпоху, когда каждый клеймит другого «диктатором», можно было бы сказать: «Да, у нас есть диктатура, потому что в военное время иначе не организовать общество для победы. Но это не я! Я – законно избранный, а вот он – диктатор!»
Резюме: почти всё в жизни человека можно рассмотреть как технологию. Такой подход эффективен – он позволяет изучать любые сферы, включая политику. Демократия, критика, капитализм, коммунизм – всё это технологии. Если что-то вас интересует, осмысляйте это как технологию, и откроете много нового!
30. Перестройка началась
Я уже говорил про съезд. Так вот, через какое-то время началась «перестройка». На самом деле всё растянулось во времени, просто тогда воспринималось иначе. И вдруг – гласность. Нам из телевизора сказали: живём плохо, скрываем недостатки, надо их выставлять напоказ. Мы не сразу поняли, что случилось. Но перемены почувствовали. Связано это или нет – не знаю. Однако в обществе пошли странные процессы.
Жили мы дружно, с соседями общались. Картошка в общем коридоре стояла – кто брал, предупреждал. Мы тоже могли попросить что-то взамен. Но однажды картошка стала пропадать без спроса. Дед по соседям прошёл, поговорил. Один даже замок дал – лежал без дела. Прикрутили. А потом… короб облили какой-то дрянью. Дед в недоумении: раньше такого не было.
Придётся объяснить – молодым не понять. Ребята, вы счастливы, у вас всё впереди! Воровство еды тогда воспринималось как глупость. Простой еды было много, и стоила она копейки. Но если нужда – значит, в крайнем случае можно взять. Но тут – другое. Взять три картошины – одно. А испортить весь ящик… Это уже не нужда, а что-то злое, бессмысленное.
Потом пришли «панки». Первые. Неряшливые, специально выставлявшие свою грязь напоказ. Они не просто хулиганили – ломали то, что принадлежало всем. Поймали нескольких. Старший сказал: «Пацаны! Руки не пачкайте – бейте ногами. Они животные!» Избили так, что в больницу увезли. Милиция брезгливо «скорую» вызвала: «Дрались между собой». Некоторые после этого… исправились.
А с телеэкранов лился бред. Запомнился спектакль – не фильм даже – где в подвале сидит узник сталинских времён, все забыли, а потом случайно находят и начинают каяться. Я спросил у старших: «Такое возможно?» – «Бред!» – отрезали.
Мы жили плохо? Нет, нормально. Если чего-то не знали – быстро узнавали. Увидел цветной телевизор – спросил у деда. Он почесал затылок, бабка маме позвонила, заначку нашли – через пару дней телевизор уже стоял у нас. Потом проигрыватель с колонками… Но когда я заикнулся про видеомагнитофон, дед взорвался: «Ты не борзей! Вырастешь – сам купишь!» Деньги были – тратили на сервизы, дублёнки, ковры: «чтобы детям осталось».
Рухнуло всё не сразу. По телевизору раньше успехи показывали – теперь искали грязь. Но люди верили: раз раньше не врали – значит, и сейчас правду говорят.
31. Театр одного актера
Смотри. Я скачу: с «ты» на «вы», с «вы» на «ты». Может, стоило выбрать что-то одно. Но тогда это будет ложь. До сих пор я тщательно маскировал мысли, чувства, всю свою жизнь. Делал это хорошо. Всё аккуратно складировалось в глубинах памяти.
Теперь – обратный процесс. Надо вскрыть память.
Есть правила. Главное: здесь буду только я. Без лишних имён. Забудь их на лету. Если понадобится – будут конструкции: [Имя Фамилия], [Имя Отчество], просто [Имя].
Это театр одного актёра. Не нравится формат? Не обману ожиданий.
Основания? Их два.
Первый – суд.
После Перестройки, уже в начале существования РФ, стало модно искать ответы в религиях. Я прочёл Ветхий Завет. Новый не впечатлил. Откровения – да. Но главным оказалась идея суда над каждым. Кто-то возмутится: «Тебя – ладно, но нас-то за что? Мы ничего!» А я отвечу: разве оправдание – не акт правосудия? Оно может значить больше, чем приговор. Справедливый суд – не сортировка. Судьи должны сомневаться до конца. Жизнь должна быть настолько насыщенной, чтобы песчинки поступков приходилось перевешивать снова и снова, удивляясь их неоднозначности. Только такой суд справедлив.
И если после смерти его нет – или нет ничего – я создам его сам. В головах тех, кому это интересно. Вы не сможете меня наказать. Но осуждение будет.
Второе – свобода информации.
Упрощённо: чтобы освободить человека, надо освободить информацию о нём и для него. А ещё – дать инструменты, чтобы с ней работать.
Оглянитесь вокруг. Основная борьба идёт не за золото, не за месторождения – за информацию о них. За права, за собственность. Присвоение давно идёт не от фактов, а факты подгоняются под нужную информацию. Подумайте. А раз так, то информация и инструменты работы с ней будут справедливы только тогда, когда принадлежат всем. Когда есть не только равные права на словах, но и реальные возможности ими воспользоваться.
Возможно, звучит сумбурно. Но именно здесь, по-моему, лежит ключ к вашему будущему.
32. Работа
Как таковой процедуры посвящения или прописки не было. Это уже потом напридумывали, и даже кто-то пытался что-то подобное реализовать – недолго. Всё было просто. Дед дал совет: заработать деньги на видак.
У моего приятеля с видаком и винилом было несколько способов добычи. Иногда он переписывал что-то из своей коллекции, продавал записи. Иногда ездил в столицы – там обменивались винилом. Но это не криминальный способ заработка, так, прикрытие. Первое – официальная работа, условная. Можно было устроиться кем угодно, хоть дворником, лишь бы сменный график. Возможность «заболеть» и принести больничный тоже никто не отменял. Пластинки – второй уровень прикрытия, объяснение, зачем ты вечно куда-то мотаешься. А оказавшись на чужой территории, среди незнакомых людей, можно было и по-настоящему поработать.
Работа никогда не была спонтанной. Ну, могли быть эксцессы, но реальное дело всегда планировали, место изучали заранее.
Зачем нужен малолетка? Очень просто – он пролезет там, где не пройдёт взрослый. Да и опыта у него ещё нет, страха тоже. Где взрослый задумается, мальчишка рванёт без раздумий. Роль у него была скромная: открыть помещение – и сразу свалить.
Подбирали своих, проверенных. «Ты сможешь в перчатках перелезть с того балкона на этот?» – примерно так звучало приглашение. «Зачем в перчатках? Я и так смогу!» – отвечали обычно. И так, шаг за шагом, те, кто был готов на поступок, входили в ближний круг.
Тут важная деталь. Позже каждый новичок станет расходником. Но тогда – термоядерный детский ресурс – берегли. Использовали максимально безопасно: чёткие, короткие роли, инструктаж на все случаи. Главное – никто никуда не ехал, пока не получал предупреждение: «Мы делаем преступные вещи. Если что-то пойдёт не так, будет наказание. Готов? Если нет – забудь этот разговор».
Ограничения. Дети не могли пропадать надолго – исчезновение должно было быть обоснованным. Обычно отпрашивались у родителей (у меня – у деда с бабушкой). Кто-то из старших поручался, давал гарантии. Получалась работа на выходных, когда сторожа пьянствуют, а обычные люди отдыхают. Дети обязаны были вернуться домой, поэтому при малейшей накладке старший сам шёл разбираться. Иногда кто-то «сдавался», отвлекая внимание, пока остальные уходили.
Выдвину тезис: при СССР богатства, пусть и не основные, тонким слоем растекались по всему населению. Поэтому кражи имели смысл – заначки хранили не только в сберкассах. Потом, когда народ обчистят, смысл пропадёт, но появятся другие возможности – уже в рамках закона.
Выезжали забавно. Старшие брали купе – в советских поездах над и рядом с верхними полками хранились матрасы, большие, плотные. Пара пацанов спокойно умещалась за ними валетом. На проверке билетов матрасы их накрывали. Поезд трогался, увозя «малолетних зайцев».
Возвращались так же. Если что-то шло не так – пригородные поезда и автобусы ходили чётко по расписанию. Вариантов хватало.
Остальное – детали. Когда, куда, зачем – вам знать не обязательно.
Да, видак я купил. С рук, кажется, на следующий год. Позже понял, что он убитый – одну кассету посмотреть можно, потом перегревался и жёвал плёнку. Но тогда меня это устраивало.
Со старшим мы копались в нём часами: промазывали валики, чистили головку. Когда стало ясно, что реанимация бесполезна, он просто показал мне, как устранять основные поломки и что для этого нужно.
Сначала магнитофон стоял у цветного телевизора в общей комнате. Но так как бабушка с дедом не всегда одобряли мои выбор, со временем пришлось купить второй телевизор – и видак переехал ко мне.
Нет, техника шуганой не была. Сразу объясняли: трофеи брать нельзя, даже если очень хочется. Иначе подставишь не только себя, но и всех.
33. Издержки профессии
Смотри, кражи, конечно, были и у нас. Приезжали гастролёры, но всегда в жизни есть исключения. Часть людей по тем или иным причинам отторгались обществом. Кто-то спился, кто-то не контролировал эмоции – если они имели отношение к людям, их отстраняли. Наркоманы? Пойдут позже. Но и они не из воздуха возникли. Если что-то случалось, вариантов было два: либо гастролёры, либо свои маргиналы.
Я опускаю момент, когда за дело спрашивали со своих – это, как правило, было насилие. Наказать имуществом сложно: даже если его много, оно имеет пределы. Даже нехорошим людям государство тут же приходило на помощь. Спалили дом косячнику? Ему сразу выделят общежитие и поставят на улучшение жилищных условий. В СССР на улице жили только те, кто сознательно так выбирал, или невменяемые – но последних быстро увозили в стационар.
Не поймите меня так, будто у нас во дворе был рай просто потому, что тут жили мы, а туда ездили работать. Нет. Относительно спокойная жизнь держалась на том, что, возвращаясь с работы, часть людей сознательно включалась в защиту двора. Это было общим делом. А кто нарушал – того отстраняли.
Да, было всякое. Но то общество жило по другим правилам – которых сейчас нет. Могли и наказать зажравшегося партийного функционера или цеховика – своих же. И такое случалось.
Были и ограничения – общие понятия. Вот пример: тогда начали раздавать землю, сначала шесть, потом десять соток. Бабушку с дедом это заинтересовало. Им предложили участок, и они поехали на электричке посмотреть. Там были гастролёры, шарили по карманам. Один полез к бабушке – она почувствовала, обернулась. А он – царапнул её по руке и растворился в толпе. На руке капилляров много – сразу и не разберёшь, насколько серьёзно. На остановке в медпункте рану промыли, забинтовали.
Когда я узнал, то с праведным гневом пришёл к одному из старших. Тот выслушал и сказал:
– Это такие же люди, как мы. У них работа такая. Раньше карманники, если рисковали быть пойманными, чиркали по глазам – чтобы жертва испугалась и не опознала. Ну, найдём мы их… И какой вопрос ты хочешь, чтобы я им задал? «Почему не по глазам»? А ты думаешь, от нашей работы все в восторге?..
Возразить было нечего.
34. Изменения в обществе и в школе
Сейчас, конечно, забавно это вспоминать, но в какой-то момент слова импортное, заграничное, а также названия зарубежных торговых марок вдруг стали магическими. Мне кажется, это всё-таки была технология управления обществом.
В подростковой среде появились импортные жвачки. Запакованные – на вес золота, не для меня. Помню, кто-то из сверстников с важным видом достал изо рта жвачку и протянул:
– Хочешь попробовать?
Я посмотрел на него как на идиота. Позже сам купил себе жвачку, развернул перед сверстниками и начал жевать с тем же напускным величием. Первый яркий вкус быстро кончился – я выплюнул эту гадость. Надо было видеть их возмущение! Теперь идиотом (точнее, дебилом) считали меня. По классам пошли рассказы, как я всего десять минут пожевал и выкинул жвачку. Но к тому времени мнение сверстников меня уже не волновало.
Первым жёстким ударом стало изменение в поведении одного из старших – самого благосклонного ко мне, с его видаком и винилом. Раньше он мог, проходя мимо, спросить, как дела, и рассказать о новой пластинке. А потом вдруг сам же предлагал прогнать меня, даже не открыв дверь. Было что-то неладное. От других старших я узнал: его отстранили от дел. Ходили слухи, что он «на чём-то сидит». А однажды утром его нашли мёртвым. Передоз. Старшие только пожали плечами: мол, так даже лучше, чем смотреть, как человек превращается в животное.
Уже открылись первые ларьки – иначе где бы я взял ту жвачку? В отличие от магазинов, у них были яркие витрины с незнакомыми алюминиевыми банками и шоколадными батончиками. Это было ещё до 90-го.
С их появлением начался слом дворовой культуры. Ларьки открывали старшие на своей территории – значит, её теперь надо было охранять. И не только от чужих, но и от соседей. Воспринималось это как норма. По телевизору говорили: ничего страшного, если в нашем обществе появятся богатые. Раньше мы всё делали не так, а теперь будем строить «социализм с человеческим лицом».
Расслоение ощущалось странно. Большинство верило, что изменения – к лучшему. Противодействия почти не было. Люди по привычке ждали чего-то от государства, а оно, наоборот, отстранялось. Закрепилась мысль: «Есть мы, которые работают, а есть они – ноют и сидят на шее у государства». Со временем это подтверждалось: те, кто «мутил», жили лучше. А те, кто ходил по парткомам или просто на завод, – всё хуже.
Что до меня – один из старших как-то подозвал и спросил, чем я занимаюсь кроме учёбы и работы. Ответы его не обрадовали. Он дал мне телефон знакомого тренера по борьбе:
– Запишись.
Секция оказалась в другом районе, от конечной до конечной. Но я стал её посещать.
И вот мы подходим к узловым годам – 90-му и 91-му.
35. Цой – мертв
Новый учебный год в 1990-м начался с необычного урока. Наверное, такая же установка прошла во всех школах – просто мы об этом никогда не говорили. И вот на классном часе нам объявили, что «наш любимый певец» погиб в автокатастрофе.
Для нашего класса это стало неожиданностью – мало кто знал его. Я знал, и мне было с чем сравнивать.
В то время ни для кого не было секретом, что на эстраде царил плагиат. Брали музыку, переводили тексты. Можете сколько угодно спорить об уникальности Цоя, но и он не был исключением. Мне повезло: к моменту знакомства с его песнями я уже слышал The Cure и The Smiths. И, поскольку я учился играть на гитаре и знал ноты, прямые совпадения резали слух. Позже я стал терпимее – каверы даже нравились, – но в подростковом возрасте заимствования воспринимались болезненно.
Так что для многих стало откровением, что у них, оказывается, был кумир, который погиб при странных обстоятельствах. Началась лихорадка: все искали записи. И только тогда, с опозданием, на стенах появились «Кино» и «Цой жив». Видимо, наш город был слишком далёк от столиц, и мода добиралась до нас медленно.
Нашу эстраду тогда воспринимали снисходительно. Зарубежные группы вроде KISS или AC/DC уже красовались на заборах, а свои казались вторичными – чужие мелодии, переделанные тексты, а то и вовсе переводы под видом оригиналов.
И всё же наши исполнители записывались легально, на «Мелодии», хоть и с налётом бунтарства. Непонятно было, против чего они так яростно борются – их тексты оставались стерильными, и без подсказки старших не разберёшь, о чём, собственно, песня.
А в это время Чумак с Кашпировским уже вовсю спасали народ магическими пасами из телевизора.
36. Пионерский галстук
На самом деле я не был таким уж отъявленным хулиганом. Работа постепенно меня перевоспитывала, учила жить в обществе.
Что касается драк – с возрастом их становилось меньше. Зато те, кто запоздало открывал в себе кулачную силу, хлебали по полной программе, вплоть до малолетки. За последние два года школы у меня случился всего один серьезный конфликт – драка. О ней потом.
91-й учебный год преподнес свои сюрпризы. Начиналось всё как обычно, но в какой-то момент я пришел в школу и нарвался на усмешки. Оказалось, пионерские галстуки уже можно было не носить. Позже отменили и форму. Не вспомню точно, когда именно – в 92-м и 93-м я перешел в другую школу, где её уже не было.
Я никогда не горел пионерским рвением. Принимали меня в последнюю очередь, вместе с отстающими – но к тому времени это уже не било по самолюбию, как в октябрятском детстве. Тогда, в младших классах, ещё хотелось возмутиться: чем я хуже? С возрастом эти обиды выветрились.