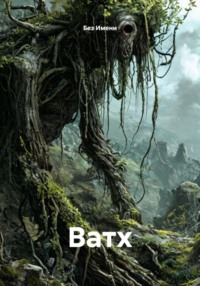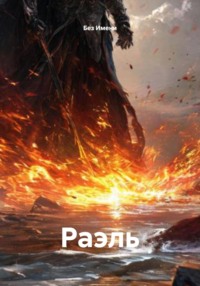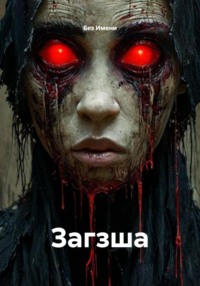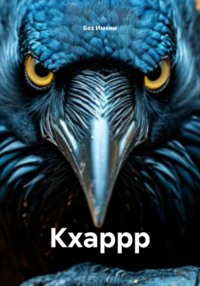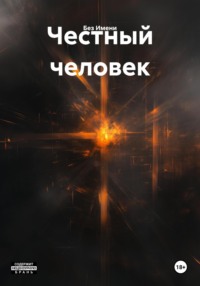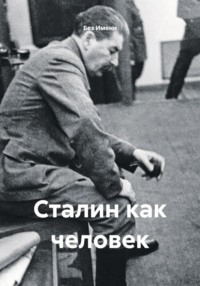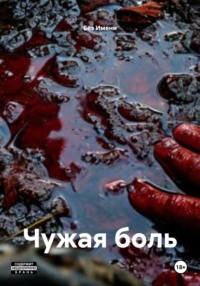Полная версия
Враг государства
– Уйди, – толкнул одного мой напарник.
Этого хватило.
На нас начали отрабатывать приёмы. Я падал, вставал, снова падал. В какой-то раз я приземлился на что-то твёрдое – острый камень впился в бедро. Боль пронзила всё тело.
Я кувыркнулся, схватил этот камень и, не целясь, швырнул в ближайшего.
Попал в лицо.
В темноте я не разглядел повреждений, но кровь текла отовсюду – нос, губы, глаза. Его друг бросился к нему, я – к своему. Так и разошлись, не сказав больше ни слова.
Дома мне влетело за испачканную форму. Но самое интересное случилось позже.
Я пришёл в Дом пионеров (занятия были не каждый день), и там меня встретили мой преподаватель, тренер по самбо и женщина в милицейской форме.
– Ты зачем мальчика кирпичом убил? – спросил тренер с ухмылкой.
У меня ёкнуло внутри.
– Как убил? Он же сам ушёл!
Тренер рассмеялся.
– Рассказывай, как было.
Я выпалил, что это они первые начали, что они так всех достали, что многие просто боятся жаловаться…
– Мы знаем, – прервал преподаватель. – Но откуда кирпич?
– Да это был камень! Я на него упал, мне больно было! Схватил и швырнул, чтобы отстал!
Тренер кивнул.
– Главное – не специально. Ладно, разобрались.
Тут я заметил милиционершу. Позже она прочитала мне лекцию о том, что нельзя отвечать злом на зло. Что парень, конечно, жив, но родители в истерике. Я хотел сказать, что меня дома тоже отругали, но преподаватель приложил палец к губам. Так я получил очень ценный совет: иногда лучше промолчать, даже если считаешь, что прав.
Позже разговор повторился уже при маме. Было неприятно.
Но в тот же день тренер по самбо вывел меня перед своими учениками и заявил:
– Среди вас завелась дурная традиция – нападать на людей. Но сегодня справедливость восторжествовала. – Он поднял мою руку. – Победил кирпич!
Зачем он так сделал?
Это прозвище прилипло ко мне надолго. Даже дворовые ребята, которые когда-то спасли меня от собаки, теперь звали меня "Кирпичом".
Я терпел, терпел… а потом не выдержал.
– Не называйте меня так.
К удивлению, к этому отнеслись серьёзно. Если кто-то забывался, старшие тут же "объясняли" ему ошибку.
Тренер по самбо позвал меня в секцию. Говорил, что я перспективный.
Но в борьбу я приду гораздо позже.
17. Между слов
Почему я объясняю слова?
Язык, который мы называем русским, уже не совсем тот, что был раньше. Он меняется – и вместе с ним меняется значение слов. Порой, разговаривая с молодыми, ловишь себя на мысли: "Они меня не понимают. Или понимают, но не так".
Приходится пояснять.
К тому же, интересно наблюдать, как одно и то же слово звучит в разных кругах. Возьмём, например, "спросить". В обычной жизни – это нейтральное действие. Но попробуйте "спросить" (а не "задать вопрос") где-нибудь в тюремной камере – реакция может быть совсем иной.
Язык живёт. И чтобы нас услышали, иногда нужно подбирать ключи. И вот тебе ещё одно преступное слово – спросить или спрашивать.
18. Меланхолия
Как видишь, жил я не скучно, даже весело. Но некоторые моменты были непростыми, я бы даже сказал – с налётом грусти.
Отношения с одноклассниками со временем выровнялись, однако долгое неприятие оставило след – мне было интереснее общаться во дворе, чем в школе. Да и с учителями порой возникала напряжённость. Признаю, я не всегда схватывал материал на лету – некоторым вещам требовались дополнительные объяснения. Это выделяло меня на фоне тех, кто понимал всё сразу. Но куда болезненнее оказалось другое.
Когда в школе узнали о моём «смешанном» происхождении – я городской, но с деревенскими корнями, – появилось прозвище: «колхозник». Оно словно давало другим право меня дразнить. Пришлось через конфликты отстаивать своё место. Не все стычки заканчивались удачно. Однажды один паренек, вместо честного разбора ситуации, пнул меня в живот и сбежал. Дыхание перехватило, пришлось отходить. Позже он формально извинился, но отсутствие ответного удара почему-то убедило некоторых, что я проявил слабость.
На этом фоне меня записывали в октябрята и пионеры в числе последних – будто я был хуже других. Хотя учился я неплохо: не отличник, но и далеко не самый слабый в классе.
Зачем я это рассказываю? В любом обществе есть ритуалы, которые с детства встраиваются в сознание как маркеры успеха или принадлежности. Никто не рождается с готовыми знаниями или статусом – все мы, хоть ребёнок, хоть взрослый, зависим от среды, в которой живём. Даже индивидуализм – часто лишь ширма: за ней скрывается желание соответствовать критериям «успешности», принятым в данном обществе.
И когда это общество демонстративно отталкивает тебя, это может исказить детское восприятие. В голову лезут странные мысли. У меня, например, почему-то укоренилась уверенность, что жить я буду только до 13 лет. Не знаю, откуда она взялась, но для меня это было объективной реальностью. А раз так – значит, и ответственности нет. Можно рулить по бездорожью, как мне тогда казалось.
19. Сигареты
Хочу рассказать почему я не начал курить сигареты?
В подростковом мире сигарета казалась пропуском во взрослую жизнь. Мне нравилось, как старшие ребята затягивались с небрежной важностью, пускали дым. Это выглядело так уверенно, так по-мужски – и я решил попробовать.
На перемене за школой мне дали первую сигарету. Вдохнул – горько, неприятно, но терпимо. Я даже разочаровался: где же та самая крутость?
Ответ пришёл сразу. Следующим уроком была физкультура на улице. Пять кругов вокруг школы – обычное дело, я всегда бегал легко. Но едва я сделал первый рывок, в горле поднялась липкая гарь. Она обжигала, цеплялась за дыхание, и с каждым шагом становилось только хуже. Я пытался откашляться за углом, глотал воздух, но сигаретная горечь не отпускала. К третьему кругу мир плыл перед глазами, голова раскалывалась, а в животе скрутило от тошноты.
Когда всё закончилось, я еле доплёлся до умывальника в школьном туалете. Холодная вода смывала вкус провала, а в голове вдруг всплыли бабушкины слова о слабых лёгких и деде, бросившем курить в один день.
На следующий день те же ребята снова протянули мне сигарету. Я посмотрел на неё, вспомнил вчерашний бег, ком в горле и головную боль – и сказал:
– Не, я завязал!
20. Мама
Может показаться, будто мама просто сдала меня на руки бабушке с дедом и исчезла из моей жизни. Но это не так. Позволь добавить несколько штрихов – для ясности.
Я люблю её. И бесконечно благодарен за всё, что она сделала. Да, бывали недопонимания, ссоры, но ничто не разорвало нашу связь – если она, конечно, существует. А если и нет… я всё равно в неё верю.
Её жизнь сложилась непросто, но она не сломалась. Не спилась, не заперлась в чьих-то объятиях, забыв обо мне, не променяла меня ни на карьеру, ни на личное счастье. И я это ценю.
Конечно, ей было тяжело. Сам факт того, что у неё есть ребёнок, ограничивал её. Она старалась, многое не получалось, но она искала баланс.
Возможно, она не достигла всего, чего могла. Начинала с ученицы швеи – с той самой деревенской наивностью, которая иногда мешала, а иногда спасала. Потом стала мастером. Уже со мной на руках окончила институт – по-тогдашнему «заочно». Пик её карьеры – руководство бригадой. А потом всё рухнуло: фабрику закрыли как нерентабельную, и ей снова пришлось начинать с нуля.
Она не пошла на рынок, хотя многие тогда видели в этом спасение. Вместо этого устроилась в новое место – и снова прошла путь от рядового сотрудника до начальника отдела. А за полгода до пенсии её сократили, уменьшив будущие выплаты. Потом – неофициальная работа в институтской канцелярии (оформляться было нельзя – урезали бы пенсию). Но и там ненадолго: институт вскоре расформировали.
Вот, собственно, и вся её история. Плюс – я, со всеми своими проблемами. Жизнь ещё не закончена, но её деятельная часть осталась позади.
Пусть живёт спокойно. Больше мне нечего добавить.
21. Мультики
Слово «мультики» для нас, детей, было почти сакральным. Думаю, и сейчас так – просто технологии позволяют смотреть их когда угодно, хоть с телефона. А тогда всё было сложнее: нужно было выискивать мультфильм в телепрограмме и терпеливо ждать своего часа. Видеомагнитофоны и кассеты в мою жизнь пришли позже, поэтому, когда один одноклассник сказал, что есть способ «смотреть мультики прямо в голове», я, конечно, загорелся этой фантастической идеей.
Оказалось, всё просто. Так я познакомился с токсикоманами. Но я уже был морально готов – хотя бы раз увидеть «что-то в голове». И вот мы собрались в их укромном уголке, пакет уже наполнен, пущен по кругу… Но до меня он не дошёл. Внезапно раздался крик: «Шухер!» – и в наше убежище начали ломиться. Я выскользнул в ближайшую щель и пулей умчался прочь – так и не осуществив свою мечту.
И знаешь, я теперь думаю, что система профилактики таких «увлечений» работала не зря. Она дала мне время узнать больше. А когда через несколько месяцев я снова встретил тех ребят, их вид, запах и вечные клеевые сопли окончательно отбили у меня желание «смотреть мультики» таким способом.
22. Хватит страдать херней!
Я помнил свое обещание не ругаться, но иначе тот период не назвать.
Один старший дворовый парень, знавший о моих «подвигах», однажды спросил:
– Ты дебил? Недоношенный, что ли?
Я готов был согласиться – самооценка на нуле. Но он выслушал мой бред и… заинтересовался.
– У меня видеомагнитофон есть, – сказал он. Для меня это было пустым звуком. – Приходи завтра, мультики посмотрим.
На следующий день я увидел целый мир: цветной телевизор (у нас дома – черно-белые «ящики» с круглыми кнопками), винилы, бобинный магнитофон. Парень был «упакован» – такое тогда редко у кого было.
Позже я понял: весь его арсенал был чтобы «кадрить» девок. Я даже мешал ему, но он терпел – видимо, жалел. А когда мне стукнуло 13, и я робко спросил про «это», он просто подогнал мне одну из своих «давалок». Половый вопрос решился за день.
Но главное было в другом. После долгих разговоров он сказал:
– Грустно, что ты так думаешь. Жить – интересно! Люди в дерьме выживают, но верят, что будет лучше. Если сдашься – ничего не получишь.
Возможно, я что-то забыл или приукрасил, но тогда его слова перевернули всё. Я записался на гитару и стрельбу (его друзья вели кружки), бросил судомоделирование – времени не хватало.
И да, эту фразу он сказал именно так:
– Хватит страдать херней!
23. Взрывной период
Советский Союз ещё стоял, и наш город напоминал военный лагерь. В каждом дворе жили военные, их дети ходили с нами в школу. Я завидовал: у кого-то отец привозил с учений взрыв-пакеты, гильзы. У деда на балконе хранились лишь дробь и порох.
Мальчишки обменивались рецептами: кто-то сушил газеты, пропитанные селитрой, кто-то тер магниевый порошок, а самые отчаянные тащили со строек карбид. Иногда аптекарши выгоняли нас, крича: «Знаем, зачем это вам нужно!»
Всё, что могло гореть или взрываться, шло в дело. Были вещи и попроще: дымовухи, чернильные бомбочки, «капитошки». За них оставляли после уроков.
Однажды весь двор собрался на «демонстрацию» взрыв-пакета. Кому-то батя с учений привёз. Он не сработал.
– Бракованный! Наверно, – объявил паренёк, высоко подняв его.
Раздался хлопок. Когда дым рассеялся, он стоял, прижимая к груди правую руку. Двух пальцев не хватало – взрыв вырвал их под корень.
Началась суета: бинты, перекись, крики. Двое малышей нашли оторванные пальцы и радостно бежали к скорой: «Нашли!» Врач схватил их, облил чем-то из пузырька, дальнейших манипуляций я не видел.
Парень стал легендой. Пальцы пришили, и он гордо демонстрировал прогресс:
– Смотри! Уже шевелю!
– Сгибаю почти полностью!
После этого взрывная гонка ускорилась. Я стащил у деда порох и дробь, штудировал библиотечные книги про оружие. Учителя одобрили: «Хоть читать начал». Просто не знали, о чём.
Моё «устройство» было простое: пузырёк, порох, дробь и самодельный фитиль из проводов. Испытания назначили в заброшенном доме – там можно было взорвать что угодно без лишних глаз.
Но не терпелось. Один парень выхватил бомбу у меня из рук, пока фитиль шипел, и рванул в дом. Мы – за ним. Раздался хлопок.
– Где рвануло? – орали все.
Он стоял в коридоре, осматривая царапины от дроби на руке. На стенах – следы попаданий.
– Шарахнуло знатно!
Но мы его порыв не одобрили, было некоторое разочарование, видел только он, за что и получил, включая словесные увещевания.
Дома дед подвёл меня к шкафу:
– Ты брал?
– Брал.
– Куда дел?
– Бомбочку сделал.
– Рвануло?
– Рвануло.
Он хмыкнул, прикрутил на шкаф замок и сказал:
– Больше ты сюда без спроса не попадёшь.
Бабушка запретила приносить домой «реактивы». На пару дней я был наказан, лишён прогулок. И с грустью смотрел из окна, как другие ребята несут очередное экспериментальное устройство на испытания.
24. Между слов
Хочется добавить слова – «снова и снова».
Я говорю про заголовок – приходится к нему возвращаться. Пока ничего другого в голову не приходит. Если что-то прояснится – переименуем.
Почему-то подумал, что слова «уважаемый читатель» прозвучат инородно в моём повествовании. С другой стороны, я уважаю тех, кто в настоящее время выделяет время на чтение.
Но читать можно по-разному. В основном я вижу, что читают эмоциями. Это не хорошо и не плохо. Эмоциональное восприятие – это нормально: что-то нравится, что-то нет, что-то вызывает отклик, а о чём-то хочется поскорее забыть. Но мне нравится, когда текст ещё и осмысляют. Пока здесь немного информации для размышления.
Есть всполохи далёких детских воспоминаний – яркие, отрывистые. Делиться нудятиной смысла не вижу.
Надеюсь, что постепенно мы расширим наш диалог. Хотя повествование идёт односторонне, я всё же хочу, чтобы ты, читатель, задавал вопросы. Я постараюсь дать ответы – размещу их в разных частях текста. У меня нет другой возможности, так что надеюсь, ты их найдёшь.
И да, извините, если кто-то любит линейное подробное изложение. Я скачу по времени: забегаю вперёд, возвращаюсь назад, что-то детализирую, что-то обобщаю. Иначе получится не рассказ, а инструкция – мануал о том, как было раньше, точнее, как я жил раньше.
Инструкции я люблю, но в образовательном смысле. Здесь же нет задачи чему-то научить – я просто хочу поговорить.
25. Совсем отмороженные
Мы говорим о периоде с 9 до 12 лет, чуть задевая 13. Да, были синяки, ссадины и даже травмы, но не каждый день. Это не бесконечная череда приключений – между ними случались и спокойные, скучные дни.
Но были и ситуации за гранью – с разными исходами. Наверное, такое происходит и сейчас. Детям стоит запомнить: если вам «на слабо» предлагают что-то опасное – откажитесь. Даже если назовут трусом. Позже всё встанет на свои места, а сейчас – не рискуйте. Взрослые, поговорите с детьми об этом.
Один парень у нас был отчаянным. Не лез ко мне – моя репутация его останавливала. Но однажды его развели на дурацкий спор. Поздняя осень, лёд. Во дворе школы стояла высокая железная арка с перекладиной – весной и осенью по ней лазили, цепляли канаты.
Он уже делал это раньше – забирался наверх и проходил по перекладине. Но тогда не было наледи. Когда мы прибежали, он уже лежал на земле и не понимал, почему не может встать. Те, кто его подначил, смылись.
Итог – перелом, тяжелая травма позвоночника и таза. Позже мы видели его в инвалидной коляске у школы. Видимо, забирал документы. Больше он не появился.
Если кто-то говорит, что раньше дети не носили в школу оружие – это не совсем так. Ножи (для игры в «ножички»), рогатки – всё это было. Но дрались по правилам: не бить по лицу, не использовать в драке то, что может покалечить.
Девочки были неприкосновенны. Даже если обзывались – ударить их считалось позором. Такого парня потом бойкотировали все.
В перестройку из Германии выводили войска, и у нас появился новенький. Как-то он обмолвился, что дома есть газовый пистолет. Я тогда уже занимался стрельбой, даже побеждал на соревнованиях.
– Неси, иначе не поверю.
Зимой он принёс. Надо же проверить – не муляж? На перемене мы вышли за школу, в рощу, где катались лыжники.
Мои мысли:
– Если стрелять – то во что? В дерево? Но газовый же, следов не оставит.
Я снял с предохранителя, взвёл затвор, и в этот момент из-за дерева выехал лыжник. Как учили, я плавно поднял ствол, и когда голова несчастного оказалась под прицельной планкой, на выдохе нажал на курок. Лыжник рухнул.
Мы в ужасе сбежали. Потом вернулись – никого. Видимо, мужик очнулся и ушёл.
Через некоторое время старшие нас собрали:
– Вы совсем отмороженные! Стариков пугаете!
Оказалось, лыжник пришёл к ним – мог в милицию настучать, но не стал. Обошлось.
Один из старших отвёл меня в сторону:
– Что за плетка была?
– Да не знаю…
– Парень-то адекватный?
– Посмотрим. Если отца приведёт – хана.
– Ладно, извинись перед дедом, он свой. Просто испугался.
Я рассказал про тех, кто ещё мог осознавать последствия своих поступков. Но были и другие – с нестабильной психикой, особенно в перестройку. Но это уже другая история.
26. Дворовая культура
Она напрашивалась сама собой. Было много детских фильмов, вроде «Тимур и его команда», «Бронзовая птица», «Кортик», «Макар-следопыт», где так или иначе присутствовали неформальные объединения ребят, как правило, в основном мальчиков. Так что некоторый дух единства присутствовал. Тем более все ребята были в основном на улице. Редко кто даже в школе был таким зубрилой или аутистом, что боялся выходить на улицу.
Если даже слаженных групп не было сразу, то они возникали постепенно и спонтанно.
У дворов не было четких границ. Да, вроде бы, живущие рядом были ближе формально. Но если возникал какой-то конфликт, всегда смотрели, кто виноват. Неформальный лидер двора мог быть, а мог и не быть – иногда один на несколько дворов. А могли и просто два пацана поспорить, подойти к сидящему на скамейке деду (вроде старого, жизнь наверняка видевшего) и задать вопрос: «Дед, ты мудрый, рассуди нас». Иногда рассуждения устраивали, иногда нет. Бывало по-разному.
У нас получилось так, что дворовые старшие дружили с разными подобными компаниями по всему городу. И не было формальных конфликтов, когда шли драться улица на улицу, район на район. Может, городок был маленький – в больших, наверное, была своя специфика. Если возникали местечковые конфликты, сначала всегда разбирали ситуацию. При необходимости находили другую сторону и узнавали её версию. И если выяснялось, что обратившийся за помощью сам был не прав, вёл себя неадекватно или пытался решить личные проблемы за счёт других, в лучшем случае ему не помогали и исключали из круга общения. Но могло быть и печальнее.
Время и общая жизнь были другими. Например, возвращаясь к моим деревенским корням: когда говорили про власть, говорили – «наша». Иногда с гордостью, иногда с иронией – только по интонации можно было понять, в каком смысле. Но власть воспринималась как своя. Поэтому, поскольку дедушка с бабушкой были малограмотными, а надо было показать внуку, к чему стремиться, то во время съездов меня усаживали перед телевизором, и все смотрели. Не потому что КГБ расстреляет, а потому что там говорили понятным языком, обсуждали важные, а главное понятные вещи. Не для меня – я был мелкий, – но я смотрел (с дедом не поспоришь). Потом выходил во двор – и, представляешь, те же местные хулиганы иногда тоже обсуждали съезд. Может, в негативном ключе и с издевкой, но они были вовлечены в процесс.
При чём тут дворовая культура? Да потому что никакая субкультура не возникает в отрыве от общепринятой. Даже если субкультура отвергает общепринятые нормы, основой всё равно остаётся та самая большая культура. Надо её знать, чтобы отвергать. А иначе получается дебилизм – чуть не сказал «анархия». Но в анархии есть принципы, а в дебилизме – только животное отторжение.
Так вот, в дворовой культуре тебе объясняли (иногда не прямо), что ты живёшь в обществе, пусть ограниченном территорией двора, и в этом обществе есть правила. Правила бывают большие – формальные, законы – и маленькие – неформальные, местечковые. Но даже их нарушение имеет последствия.
Часто дворовую культуру отождествляют с уголовной, то есть преступной или воровской. Это не всегда так. Даже преступная культура не всегда воровская. Двор – это территория, и тот, кто берёт на себя ответственность за жизнь на ней, имеет отношение к дворовой культуре.
В нашем дворе общество делилось на: людей, гражданских или непричастных, больных прочую нечисть (крайнее выражение – животные).
К каждой группе отношение было разное.
Больные – те, кто по медицинским причинам не может отвечать за поступки. С них спроса нет. Но инвалид с ясным умом к ним не относится.
Гражданские (непричастные) – обычные люди, с них спрос может и не быть.
Прочая нечисть (животные) – те, кто живёт неприемлемо для общества, при этом осознаёт это (не больные). Сюда относили наркоманов, токсикоманов, опустившихся алкоголиков, насильников, некоторых хулиганов. Но нюанс: отнесение к этой группе должно быть общепризнанным. Это надо заслужить. Поэтому могли быть «тихие» наркоманы или алкоголики. Люди сами не прочь выпить. Дебоширы и хулиганы, не дотягивающие до нечисти, тоже бывали.
Насильники – исключительно животные. Если мужик переспал с бабой, она потом написала заявление, и они не смогли договориться – ему влепили статью, но к нечисти он не относится. Единственная группа, которая сразу считалась животными без исключений – педофилы.
Люди – прежде всего коллективы. Индивидуальные действия никогда не приносят серьёзного результата. Это те, кто сознательно и по общему признанию взял на себя работу по установлению и соблюдению правил на своей территории. Для этого они готовы на поступки, которые общество может считать преступлениями, и заранее принимают ответственность. Их действия осознанны, без животной основы.
Поскольку готовность к нарушениям есть, они могут это совмещать. Но в том обществе нельзя было одновременно делать что-то для двора и вредить ему. Рано или поздно это раскрывалось, и коллектив либо сам наказывал нарушителя, либо его заменяли другим. Поэтому был принцип: «Мы не гадим там, где живём». Свои преступные «специализации» они проявляли на стороне. В свою очередь, к «гастролёрам» с других территорий могли применить коллективное насилие – но сначала их надо было вычислить.
Во дворе могли быть люди, причастные к решению вопросов, но без криминального опыта. Хотя у большинства какой-то багаж был. Именно он перекладывался в местные легенды и привносил в дворовую культуру воровские и преступные понятия.
При этом можно было участвовать в дворовой жизни, но не быть связанным с криминалом.
Конец 1980-х – это и конец этой культуры. Частные интересы стали преобладать, и коллективы перестали думать о дворе, сосредоточившись на личной выгоде. Принцип перевернулся: территории, которые раньше охраняли, стали личными «вотчинами», из которых извлекали доход. Коллективы превратились в группировки или банды. Вот тогда дворовое окончательно стало преступным.
В каком-то упрощённом виде старое сохранялось в начале 1990-х. Но когда я заканчивал школу, те, кто пытался жить по-старому, начали люмпенизироваться. Их уже не воспринимали как «людей». Многое стал решать размер кошелька – уже многое, но ещё не всё.
27. Между слов
Может, придумать что-то вроде «междусловия». Раз уж такая рубрика зачастила.
Два насущных вопроса.
Первый: почему и когда умерла дворовая культура? Ответ: когда общее стало возможным растащить по карманам. Тогда правила рухнули.
Второй: нет тождества между преступным, уголовным и воровским. Жизнь может быть преступной, но не стать уголовной. Уголовное – это наказание, а оно не может быть стилем жизни. Воровское – лишь часть яркого преступного спектра. Они могут пересекаться, но у каждого своё: образ жизни, наказание, специализация.