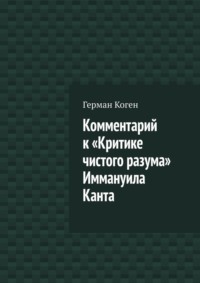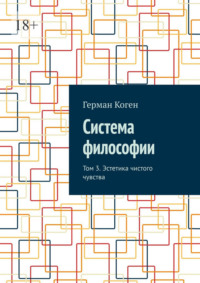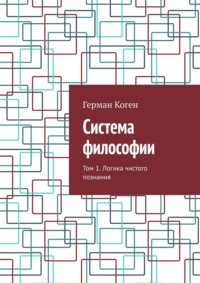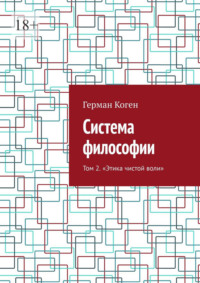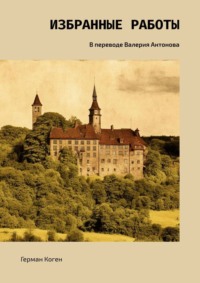Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
Если учесть, что и понятие науки не было точно ограничено – ни по объёму, ни по содержанию, ни по отношению к понятию философии, – то станет понятно, почему отношение между наукой и искусством должно было мыслиться совершенно неустойчивым и неточным. Если эстетика изобреталась как нечто противопоставленное искусству и науке, то можно было бы предположить, что её следовало бы обозначить лишь как науку об искусстве. Но даже искусство не мыслилось настолько обобщённо. А поскольку наука, касающаяся искусства, относилась только к чувственности, то и эта наука о чувственном не могла быть понята в собственном и полном смысле как наука. Таким образом, могло случиться, что сама наука о чувственном – мыслилась как искусство.
В этой двусмысленности, быть наполовину наукой, наполовину искусством, страдает первая эстетика, составленная под этим названием, которую мы обязаны профессору из Галле, а позднее из Франкфурта – Баумгартену.
Эта двусмысленность коренится в основных определениях системы. В его «Метафизике»[29] говорится: Anima mea quaedam cognoscit obscure, quaedam confuse cognoscit… Ergo anima habet facultatem cognoscitivam inferiorem. Таким образом, эта способность представлять смутно есть низшая познавательная способность. В «Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus»[30]: Philosophia poëtica scientia ad perfectionem dirigens orationem sensitivam. Philosophia poëtica supponire поэтому в поэте facultatem sensitivam inferiorem. На обозначение и подчёркивание этой способности как низшей, кажется, не нужно обращать столь большого внимания; ибо здесь, возможно, играет роль ирония скромности из-за введения новой дисциплины. Он продолжает: это, собственно, должно было бы направляться per Logicen sensu generaliore. Sed qui nostram seit logicam, quam incultus hic ager sit, non nesciet. Поэтому пусть логика останется предназначенной для высшего познания истины, а философам представилась бы возможность исследовать artificia, посредством которых можно утончать низшие познания. Таким образом, недостаток заключается не в том, что он ставит эстетику ниже логики, хотя это обнажает неясность и провоцирует противоречие. Так, проповедник А. Г. Розенберг (1749), после того как Майер, основываясь на лекционных записях Баумгартена (читавшего эстетику с 1742 года), издал в 1748 году «Начальные основания изящных наук», пишет: «Что же я должен себе представить заранее относительно новой науки господина профессора Майера, которую он называет эстетикой?.. Неясное познание и наука кажутся мне несколько противоречивыми. Его красота перестанет быть красотой, потому что он введёт её в науку. Или же его наука потеряет это название, потому что, чтобы сохранить красоту, он должен будет оставаться лишь при неясном познании. Это делает меня любопытным поскорее увидеть ближе это новое изобретение – эстетику».[31] Заблуждение здесь простое: наука, которая хочет объяснить содержание неясного сознания, сама не должна быть неясной. Однако заблуждение кроется с обеих сторон в неясном значении, которое задуманная наука о прекрасном имеет как наука. Не то, что Баумгартен мыслит её как низшую науку, составляет ошибку, а то, что он вообще не мыслит её строго и принципиально как науку, а скорее как искусство, подобно тому как и он сам, будучи поэтом-любителем, был приведён к этой проблеме.
Первая часть его «Aesthetica» вышла в 1750 году, вторая – в 1758. Уже первые параграфы новой книги обнаруживают эту неясность, этот, если и не бессознательный, то всё же наивный двойной смысл теории и искусства. § 1 гласит: «Aesthetica (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulcre cogitandi, ars analogi rationis) est scientia cognitionis sensitivae». Среди objectiones, которых он сам приводит десять и на которые отвечает, восьмой вопрос звучит: «Aesthetica ars est, non scientia?», а ответы таковы: a) hi non sunt oppositi habitus. Quot olim artes tantum, jam sunt simul scientiae. b) nostram artem demonstrari posse, probabit experientia. Psychologia даёт ей certa principia, и поэтому она заслуживает, ut elevetur in scientiam. Таким образом, для него существует лишь различие в ранге между наукой и искусством, а не различие в содержании сознания и способе его порождения.
Та же двусмысленность присуща отдельным определениям. Pars I Sectio I: Pulcritudo cognitionis. Почему не наоборот? § 14: «Aesthetices finis est perfectio cognitionis sensitivae qua talis. Haec autem est pulcritudo». Итак, совершенство познания, хотя и чувственного, как красота, есть цель эстетики; не совершенство познания прекрасного, а совершенство познания как красоты. Поэтому он полностью отрицает, что ingenium, рождённое для scientiae solidiores, может быть omni venustati cognitionis, uti nascitur, inhabile.[32] В доказательство он приводит: «Orpheus et philosophiae poëticae statores, Socrates, εἴρων dictus, Plato, Aristoteles, Grotius, Cartesius, Leibnitius». Felix aestheticus – это сам художник.[33] Поскольку он не уловил различия между наукой и искусством, он мог льстить себе, разве что как поэт-любитель, но не как философ этого эстетического счастья.
Если подумать о том, сколько выигрывает определение проблемы, когда под одним именем связанные вопросы объединяются умом, внутренне заинтересованным в них, то нельзя недооценивать заслугу Баумгартена. Ведь он сформулировал эти вопросы искусства как проблему спекуляции и подтвердил в этом наследие немецкого, лейбницевского идеализма: то, что он относит прекрасное – как науку или искусство – к чувственному познанию qua talis, признавая его, таким образом, как область духа, как продукт сознания. Хотя, таким образом, utopia, mundus fabulosus, nugae греческой и римской мифологии отвергаются и запрещаются им,[34] он всё же признаёт в рассуждениях о veritas aesthetica также veritas heterocosmica,[35] в которой, следовательно, «чувственное познание» действует по собственной власти.
Как бы ни был благодарно узнаваем этот глубочайший немецкий характер в нововведении Баумгартена, его попытку всё же нельзя назвать попыткой обоснования эстетики. Ибо она предполагает, что искусство признано как направление сознания, отличное от науки. Только если понято методологическое различие между искусством и наукой, эстетика может быть обоснована как наука об искусстве, то есть воздвигнута как философская наука об искусстве.
Баумгартен не возвышает эстетику как философскую науку над столкновениями с теориями искусства. Как техника искусства эта новая наука казалась недостаточно многогранной, не охватывающей весь объём искусства, а как философская теория – слишком незначительной, чтобы Винкельман мог удовлетворить даже свою философскую потребность из неё. Но и Лессинг очень мало учитывает Баумгартена, даже иногда пренебрежительно на него намекает. Мендельсон тоже редко его цитирует. Вполне справедливо и метко судит о нём Гердер: поэзия благодаря Баумгартену получила в душе «область собственности». Это право собственности стало предварительным условием для обоснования эстетики в мысли: что прекрасное есть область души, продукт сознания, но не познание, не наука.
Какое же деяние обозначает следующий шаг, переход к эстетике? Гетерокосмическое поэтической фантазии оказалось недостаточным, чтобы прояснить отношение между искусством и наукой. Требовалось ли, возможно, универсальное понимание красоты, объединение всех искусств? Исторический ход даёт иной отчёт и иное наставление.
Интерес к прекрасному, к живой природе прекрасного, был вновь пробуждён тем видом искусства, который обращается к душе наиболее непосредственно, потому что в нём душа выражается точнее всего и в то же время наиболее универсально – своим естественным звучанием, своим языком: поэзией, и среди её видов – лирикой, лирическими мотивами в религиозной поэме Мильтона о природе, а также туманной далью древнегерманских эпосов. Эти произведения оживили художественное чувство швейцарцев и направили его на здоровые вопросы. В этом лирическом характере признанных ими эпосов они обнаружили соотношение поэзии и живописи, где сама природа выступает связующим звеном между этими искусствами. Но это соединение поэзии и живописи ещё не даёт соотношения природы и изобразительного искусства. И только через определение последнего можно постичь отношение природы и искусства. Это ведущее, направляющее значение принадлежит пластике.
Лишь из пластики можно понять творческую силу всякого искусства, включая поэзию. Даже люди поэзии предстают как подражания, а не как «телесные дети Божьи», пока не пробудились восприимчивость и понимание природной мощи скульптурных произведений. Пластика сходна с лирикой в том, что представляет непосредственнейший предмет всякого художественного интереса – человека, притом в его истинном природном явлении, в его облике. Её цель определяется так: ui hominem ponat [36]. В этом изображении она превосходит живопись, а в своём материале, возможно, даже её высший природный объект – пейзаж.
Но для понимания пластики, по-видимому, необходима была предварительная историческая осведомлённость о её развитии, что связано с дальнейшим условием – знакомством с классической древностью, увлечением ею, её историографией, поэзией и философией, её религией и образом мыслей, тем φιλοκαλοῦμεν καὶ φιλοσοφοῦμεν (мы любим прекрасное и мудрое), как в перикловом сокращении выражен афинский дух. Лишь через точное и обширное знание сокровищ античной пластики, которые предстояло раскрыть филологическому изучению археологии, интерес к ней мог стать определяющим. Майер ещё выводит эстетику от ναἴσϑω (я ощущаю). Баумгартен цитировал преимущественно места из латинских поэтов, заимствуя их из «Сокровищницы» Гесснера.
Но среди слушателей Баумгартена сидел человек судьбы – Винкельман.
Он «не слушал ни одного балтийского профессора прилежнее, чем Баумгартена» [37]. Однако суждение слушателя не противоречит анализу, который мы попытались провести относительно основы Баумгартена: «великие общие истины… так как они не применялись и не истолковывались применительно к единично прекрасному, растворились в пустых размышлениях». Если бы это действительно были «великие общие истины», они не могли бы потеряться в «пустых размышлениях». Но видно, что Винкельман щедр на признание «великих общих истин», потому что упрекает за недостаток «единично прекрасного» и интересуется прежде всего им.
Это предпочтение единично прекрасного следует понимать буквально, а не по шаблону противопоставления индуктивно-эмпирического ума дедуктивному способу доказательства. Винкельман и в отношении искусства – специалист. «Можно смело утверждать, что у него было мало чувства к красотам архитектуры и живописи» [38]. А о его отношении к поэзии Гёте судит так: «Как бы Винкельман ни учитывал поэтов при чтении древних писателей, при внимательном рассмотрении его занятий и жизненного пути мы не находим подлинной склонности к поэзии; скорее можно сказать, что здесь и там проглядывает даже некоторая неприязнь» [39]. Таким образом, кажется, Винкельман «истолковал» «единично прекрасное» пластики единственно потому, что наслаждался им, и всё же среди всех предшественников он наиболее положительно способствовал обоснованию эстетики. Действительно, пластика и её истолкование Винкельманом заслужили эту заслугу перед эстетикой.
Интересно проследить у художников Ренессанса вплоть до их поздних представителей обсуждение вопроса, проходящего через их письма: чему отдать предпочтение – пластике или живописи. Порой они, что им вполне простительно, говорят с технической точки зрения, с которой живопись ставится выше. Но там, где они затрагивают суть вопроса, ни один из великих не сомневается, что пластика – ведущее искусство среди изобразительных. Она содержит метод, общий для всех изобразительных искусств как таковых.
Прежде чем спросить, в чём состоит этот метод, рассмотрим благоприятное положение пластики в отношении объекта и средства для продвижения и подтверждения этого метода. Здесь прежде всего обращает на себя внимание ограничение, которое пластика может на себя наложить, не снижая своей тенденции, – благоприятный пример. Ей достаточно одной фигуры как арены своего высшего раскрытия. Таким образом, по характеру своего объекта она призвана к простоте. И благодаря простоте, которая отказывается от воздействия через массу групп или украшений и усиления эффекта, она избавляется от рассеянности, которой может поддаться портретная тенденция живописи. В то время как живопись, если она не направляется пластикой, стремится уловить индивидуальное и представить его как таковое, пластика ищет всеобщее, даже в индивидуальном – всеобщее, которое преимущественно проявляется в облике. Всеобщее в облике – это постоянное, тогда как живопись может пытаться запечатлеть преходящее – мимолётное выражение, момент в игре черт. Преходящее – знак единичного, оправданного в отдельный момент, а значит, приятного, угодного, доставляющего удовольствие. Постоянное обозначает всеобщее, род, закономерное, а следовательно, возможно, и прекрасное. В сравнении с беспокойством живописно-индивидуального пластика обладает характером покоя. Этот покой – симптом типа.
Уже эти известные со времён Винкельмана черты пластики позволяют распознать её преимущества, которые не следует считать чисто техническими. Но ещё отсутствует та связь признаков, в которой выражается методологическое превосходство пластики. Если бы пластике нужно было просто изображать родовой тип, она занималась бы не столько художественной, сколько сравнимой с естественнонаучными дисциплинами деятельностью. Но и научная индукция предстаёт недостаточной и узкой, если охарактеризовать её как процедуру наблюдения и сбора признаков исследуемого типа в отдельных его проявлениях. Уже то, что среди этих признаков различают существенные и несущественные, показывает, что наблюдением и сбором дело не ограничивается. Логика индукции волей-неволей заимствует у подозрительной дедукции большую посылку, ведущую мысль. Так и индуктивное собирание отдельных прекрасных черт никогда не привело бы к объединению их в одном объекте как прекрасном. Сами признаки, собиранием которых должно возникнуть произведение, не в меньшей степени, чем само произведение, предполагают прекрасное, вместо того чтобы его порождать.
Родовое выражение, которое представляет пластика, – это не идея в том смысле, как её описывают сенсуалисты, то есть как копию впечатлений, соединение ощущений. Винкельман использует для него термин, восходящий к истокам всякой спекуляции, но введённый, как мы увидим у Лессинга, итальянским иезуитом в 1687 году, – термин идеала.
Это выражение дало повод к многочисленным заблуждениям в искусстве и разногласиям в рассуждениях. Но эти слабые трактовки основополагающей мысли не должны смущать наше принципиальное рассмотрение. В мысли об идеале, в отличие от простой идеи, совершается точное определение отношения между природой и искусством; и тем самым прокладывается путь к действительному обоснованию эстетики. В понятии идеала заключено методологическое значение искусства. В нём методологическое преимущество пластики может быть выражено если не с ясной, содержательной исчерпанностью, то по крайней мере с весомой акцентуацией, вызывающей дальнейшие размышления. Понятие идеала – это cogito эстетики: оно означает выведение искусства из сознания.
Искусство и сознание – вот лучшие члены подлежащего восстановлению, поскольку безусловно существующего отношения, чем искусство и природа. Ибо, конечно, искусство не должно и не может иметь иного объекта – если отвлечься от нравственных тем, которые в некотором смысле тоже могут относиться к природе, – чем тот, который содержит природа. Так что нельзя понимать это так, будто объект искусства, мыслимый как идеал, лежит вне и по ту сторону природы. Поэтому и спор о том, должны или могут ли произведения искусства быть прекраснее произведений природы, кажется праздным, поскольку направления в нём не точно определены. Во всех этих вопросах очевидна petitio principii. Принцип лежит в сознании. Вопрос в том, какую долю означает сознание как источник и правовое основание прекрасного для искусства и для природы. И есть веские причины, которые мы узнаем позже, почему начинать нужно с отношения сознания к искусству.
Но как только сознание мыслится как член искомого отношения, оно оказывается его источником и средоточием. Если произведение искусства есть произведение сознания, оно не может полностью раствориться в природе; ведь и природа становится объектом лишь потому, что она есть содержание сознания. Этот корень сознания раскрывается в понятии идеала. Ибо идеал обозначает, в отличие от современного французско-английского значения идеи, идею в классическом, платоновском смысле. Идея современных – это плоское представление, заменяющее «впечатление». Классическая идея обозначает порождение, «чистое» созерцание, а не просто восприятие; отсюда соединение высших потенций сознания с чувственными, дабы в этой связи и благодаря ей рождалось новое содержание сознания – то, что нельзя вычитать из так называемой природы.
Это творчество, связанное с подлинным созерцанием, это порождение, которое должно быть действенным даже при воспроизведении, это освобождение от данного, благодаря которому искусство достигает своего расцвета, которым оно также оттачивается для наблюдения природы и её воспроизведения, – этот творческий момент Винкельман уловил в понятии идеала и сделал плодотворным для истолкования пластики, а также, согласно всеобъемлющему понятию истории, которое он заявлял и преследовал, для истории искусства. Однако в своей первой работе он ссылается для этого понятия идеала не на самого Платона, а на то, чему «учит древний толкователь Платона», а именно «Прокл в „Тимее“ Платона» [40]. Поэтому мы не должны ожидать и от возобновлённых в Риме занятий Платоном такого чисто философского переворота, чтобы основная мысль идеала, которую Винкельман оживляет для предыстории эстетики, достигла у него полной ясности из методологического понимания платоновской идеи. Историческая заслуга состоит в выдвижении, описании и освещении понятия, которое должно было стать эпохальным, потому что оно есть методологическое основное понятие всякого искусства.
Винкельман начинает свою писательскую деятельность с «Мыслей о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1756), которые он сам же подвергает критике в «Послании» и защищает в «Пояснении». Эти сочинения были написаны незадолго до его переезда в Рим и опубликованы, когда он уже находился там. «Трактат о способности восприятия прекрасного в искусстве и обучении ему» датируется 1763 годом. Предисловие к «Истории искусства древности» помечено 1766 годом. В том же году появился и Trattato preliminare как предисловие к его Monumenti inediti. Деятельность Винкельмана как автора, которую он начал лишь в сорок лет, укладывается в десятилетний период, одновременно завершившийся и его жизнью. Из этих кратких, но тесно связанных между собой единым изучением и повторными обработками временных промежутков объясняется единство взглядов Винкельмана, которое становится ещё более проникновенным и внутренним благодаря повторениям в следующих друг за другом изложениях, направленных на одну и ту же цель, а также благодаря небольшим отклонениям в отдельных формулировках одной и той же основной мысли и тех же примеров.
Прежде всего характерно то, что Винкельман пишет свою вводную работу не о подражании природе, а о подражании произведениям искусства, именно греческим. В таком подражании формировались Микеланджело и Рафаэль. «Знатоки и подражатели греческих произведений находят в их шедеврах не только самую прекрасную природу, но ещё и нечто большее, чем природа, а именно – определённые идеальные красоты её, которые, как учит нас древний толкователь Платона, созданы из образов, задуманных исключительно в разуме»[41]. Здесь, таким образом, идеальные красоты не только возвышаются над природой, но и – что отнюдь не одно и то же – «задуманы в разуме». Правда, этот поворот мысли тут же корректируется в духе последующих рассуждений указанием на чувство: «внутреннее чувство формирует характер истины; и рисовальщик, который хочет придать его своим академиям, не получит и тени истинного без собственного восполнения того, что не чувствует нетронутая и равнодушная душа модели»[42]. Тем не менее разум сохраняется как подлинный источник этих красот. Показывая, как греки культивировали и поощряли наблюдение прекрасного в человеческих телах, он выводит из этого наблюдения природы создание идеалов: «Эти частые возможности наблюдать природу побуждали художников идти ещё дальше: они начали формировать для себя определённые общие понятия о красоте, как отдельных частей, так и целых пропорций тела, которые должны были возвышаться над самой природой; их прообразом была лишь духовная природа, задуманная в разуме. Так Рафаэль создал свою Галатею. Смотрите его письмо к графу Бальтазару Кастильоне: „Поскольку красоты среди женщин так редки, – пишет он, – я пользуюсь определённой идеей в своём воображении“. Согласно этим понятиям, возвышающимся над обычной формой материи, греки создавали богов и людей… Римские императрицы изображались греками на их монетах по тем же идеям… Но закон „изображать лица похожими и в то же время более прекрасными“ всегда был высшим законом, который признавали над собой греческие художники, и он необходимо предполагает стремление мастера к более прекрасной и совершенной природе… Поэтому, когда сообщается, что некоторые художники поступали, как Пракситель… то я полагаю, это происходило без отклонения от упомянутых общих великих законов искусства. Чувственная красота давала художнику прекрасную природу; идеальная красота – возвышенные черты: от первой он брал человеческое, от второй – божественное»[43]. Таким образом, идеальное здесь без сокращений означает задуманное и благодаря замыслу возвышающееся над природой. И он ссылается здесь, как и выше на Рафаэля, так и на «великого Бернини», который, хотя и «хотел оспорить у греков преимущество отчасти более прекрасной природы, отчасти идеальной красоты их фигур», тем не менее признавал, что именно Медичийская Венера научила его «открывать красоты в природе»: «Не следует ли из этого, что красота греческих статуй открывается раньше, чем красота в природе?» Винкельман не хочет делать иного вывода из принципиально противоположной позиции Бернини, кроме этого.
Однако противоречие глубже. Мысль о том, что «природа умеет дать всем своим частям необходимое прекрасное», отрицает возможность идеала; поэтому Винкельман, не оспаривая её здесь прямо, развивает свою собственную точку зрения на возникновение идеалов. «Подражание прекрасному в природе направлено либо на отдельный объект, либо собирает наблюдения из различных отдельных и сводит их воедино. Первое называется созданием похожей копии, портрета; это путь к голландским формам и фигурам. Второе же – путь к всеобщему прекрасному и его идеальным образам; и это тот путь, которым шли греки»[44]. В противоположность копии здесь указывается путь к «всеобщему прекрасному» и «идеальным образам» в том, что «наблюдения из различных отдельных объектов собираются» и «сводятся воедино». Поэтому древние произведения искусства предпочтительнее природы: «Я полагаю, их подражание может научить быстрее становиться мудрым, потому что здесь в одном (Антиное) находят совокупность того, что распределено во всей природе, а в другом (Ватиканском Аполлоне) – как далеко самая прекрасная природа может, смело, но мудро, возвыситься над самой собой». Таким образом, в то время как в природе красоты распределены, в произведении искусства они собраны и объединены. Так художник, следуя «греческому правилу», может прийти к природе и постепенно «сам стать для себя правилом». Следовательно, Винкельман завершает понятие идеала в понятии гения. Поскольку идеал объединяет разрозненное в природе силой собственного мышления или внутреннего чувства, «сводит воедино», он растворяет кажущееся внешним правило, которое представляет собой древнее произведение искусства, в собственной природе.
Но остаётся вопрос: какой художественный метод позволил грекам, сколь бы ни способствовали их нравы наблюдению прекрасного, создать то прекрасное, ту идеальную красоту, которой в природе попросту не было? «Собирание» и «сведение воедино» требуют более точной характеристики, и только через неё понятие идеала может стать ясным в своём методологическом значении.
Методологическая ценность идеала заключается в понятии рисунка, линии, которое Винкельман поэтому представляет как понятие, порождающее идеальную красоту; оно узнаваемо как таковое, хотя и не везде утверждается в этом качестве, тем более не освещается и не определяется с учительной проницательностью как основное методологическое понятие.
Уже в начале трактата он ссылается на сообщение Аристотеля о том, что греки из эстетических соображений обучали детей рисованию, а в «Пояснении» ставит влияние воспитания выше влияния климата[45]. «Даже если бы подражание природе могло дать художнику всё, правильность контура, несомненно, не была бы достигнута через неё; этому можно научиться только у греков. Благороднейший контур объединяет или охватывает все части самой прекрасной природы и тождественных красот в фигурах греков; или, скорее, он есть высшее понятие в обоих»[46]. Здесь найден точный выражение: понятие контура есть «высшее понятие» для красот природы, а также для тождественных. Почему понятие контура есть «высшее» понятие? В каком отношении ценности лежит эта оценка? Можно было бы подумать, что такое отношение ценности показано в тенденции трактата: древние являются образцами, потому что они изобрели идеал. Если же контур есть высшее понятие, то, должно быть, потому, что он порождает идеал?