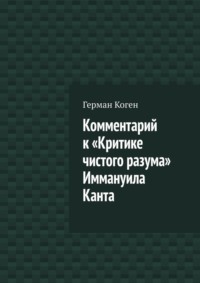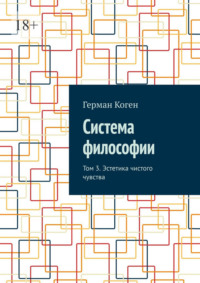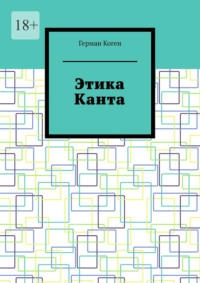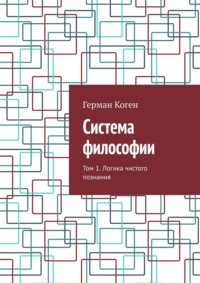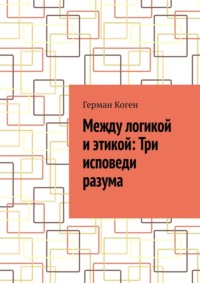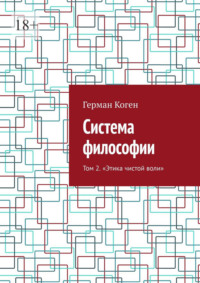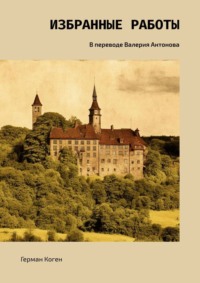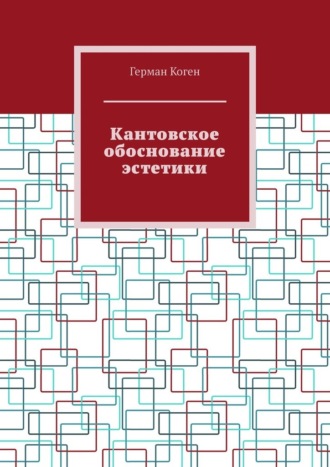
Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
У Канта она стала самостоятельной и тем не менее подчиненной системе: систематически самостоятельной. Система критической философии не завершена, если отсутствует то звено сознания, в котором объединяются интересы теории и практики. Но завершение не могло быть предпринято, не говоря уже о достижении, если прежде для системы культуры не была удостоверена наука и оправдана нравственность. То, как Кант осуществил одно и другое, должно быть поэтому положено в основу, если хотят понять, как он приступил к третьему.
И эта предпосылка необходима не только для изучения «Критики способности суждения», но не менее способствует и систематической реконструкции в целом – провести те два сектора в знакомых линиях прозрачно, чтобы третий отрезок привести к излучению и определению. Опасность повторения известных мыслей при этом, по крайней мере методически, не угрожает. Ибо если рекапитуляция требуется для систематической цели, даже для завершения системы, то можно ожидать, что новая точка цели, если и не вызовет новые лучи, то, во всяком случае, побудит к более определенному проявлению некоторых направляющих линий. Основные линии учения об опыте, как и учения о нравственности, будучи соотнесены с вновь освещаемым центром, должны возрастать в своем направленном объеме, а значит, могут становиться яснее и определеннее в своей расширенной действенности.
Ибо пока искусство не стало самостоятельным среди областей культуры, оно затемняет границы как науки, так и нравственности: питаясь от них материалом и находя в них оправдание своего права на существование. Если же искусство признано наравне с природой и нравственностью как равноправная область, то и методическая тенденция, и систематическая действенность как научных, так и этических основных понятий могут становиться определеннее по объему и содержанию.
Это мнение и ожидание имеют глубокое основание, которое только что было указано; но полное освещение его уместно не иначе, как если на него указать как на корень всего исследования.
Искусство питается, как мы только что сказали, материалом от науки и нравственности. Этот факт необходимо с самого начала иметь в виду. Из него вытекает другое важное, основополагающее соображение.
Всякий питательный материал, который должен быть критически признан таковым, должен быть как таковой произведен, узаконен. Производство материала повсюду лежит на методических основных понятиях. Следовательно, методические основные понятия науки и нравственности должны быть изложены также в том направлении, в котором они производят тот материал, который искусство впитывает и преобразует в новый вид материала. Таким образом, намечается методическое расширение как научных, так и этических основных понятий, поскольку мы выполняем их отношение к эстетике для завершения системы. Этот предметный Zusammenhang рассматривается в одном из указанных видов предпосылок. Необходимость другой, исторической ориентации, связана с систематической.
Ибо из истории мнений мы, правда, узнаем проблемы; но без догматического понимания и позиции ни одну не поймем, и самая обширная история останется бесплодной. Это должно относиться к истории эстетики не менее, чем к истории математики.
Как история искусства распознаёт свои вершины, так и история эстетической рефлексии должна уметь находить и разделять эпохи. Однако в качестве методологического мерила, исключающего неконтролируемый произвол, мы принимаем систематику всех направлений, порождающих культуру.
Ссылки:
[1] Лейбниц, Deutsche Schriften, изд. Гурауэра, т. I, стр. 468.
[2] Цитата (стр. …) относится к «Критике способности суждения» Канта, изд. Кербаха. Цитата (Кр. стр. …) – к «Критике чистого разума» в том же издании.
Историческое введение
Название «эстетика» было введено лишь примерно за сорок лет до начинания Канта. Не только название, но и собирание и объединение проблем, охватываемых этим понятием, в систематическую главную область философии – эта заострённость проблемы, обозначенная новым именем, является одной из великих заслуг лейбницевской эпохи, эпохи немецкого Просвещения. Исторический обзор, который нам предстоит провести, мог бы, таким образом, в основном начаться с этого периода, в котором возникли наиболее значительные устремления в области теорий искусства.
Тем не менее может показаться, что соображения, учитывающие экономию материала, подобающего введению, должны были бы оказаться решающими при определении границ нашего обзора. Могло бы показаться странным, что мы считаем возможным начать с эпохи Лейбница, где разве что важнейшие импульсы из близкой эпохи Декарта могли бы быть упомянуты попутно, а не признать необходимым начать там, где, казалось бы, лежит действительно и непреходяще плодотворный источник всей эстетической спекуляции: платоновская идея прекрасного, к которой отчасти в глубоких и как раз здесь уместных рассуждениях Плотина обращались не только художники и антиквары Возрождения, но и Винкельман, когда они искали успокоения и оправдания для своего дела, своего творчества и исследований.
Тем не менее я полагаю, что здесь, где речь идёт не об истории эстетики и едва ли даже о принципах, о попытках её обоснования, а скорее лишь о том, чтобы найти нить, которую Кант продолжил в совершенно новом тканье, – можно позволить себе не рассматривать Платона и Плотина. Ибо как бы хорошо Плотин ни понимал своего Платона именно в отношении идеи прекрасного, и как бы ни были несравненно велики и основополагающи мысли Платона в отношении эстетики, установление этих заслуг всё же не принадлежит к линии, которую нам предстоит проследить. Однако постановка нашей проблемы могла бы выиграть, если бы мы рассмотрели отношение, в котором философская античность стоит к искусству.
Прежде всего представим себе, какое расположение создал Платон для эстетики, какие основы он заложил. Одну из них, вернее, саму всеобъемлющую основу, обозначает понятие прекрасного как идеи. Если где-либо может стать непосредственно ясным, насколько ἰδέα и εἶδος в сознании писателя коренным образом различны, то ἰδέα прекрасного может это продемонстрировать. Идею равного, идею прямого, короче, математические идеи можно было бы, пожалуй, считать равнозначными соответствующим понятиям. Также и идея блага могла бы, казалось, охватывать этические понятия справедливости, добродетели и мужества. Но что идея прекрасного означает в уме Платона нечто иное, нежели понятие прекрасного, – это должен был бы понять каждый читатель «Пира». Если об идее прекрасного там может быть сказано то, что в иных случаях говорится лишь в высших развитиях «Государства» об идее блага:
οὔτε τις λόγος οὔτε τις ἐπιστήμη
(«ни слово, ни знание»),
то из этой гиперболы явствует тенденция мысли: что идея есть элемент, порождающий понятие и науку, и обосновывающее средство доказательства.
Эта порождающая сила идеи заключена в её этимоне как «зрение» (ἰδεῖν). А обосновывающая сила – в обозначении идеи как ὑπόθεσις. Последнее значение как основы всякого исследования и всякого обоснования, которое заключается в гипотезе, более присуще математическим и этическим идеям. И то, что эта гипотеза называется «уверенностью» (τὸ ἀσφαλὲς τῆς ὑποθέσεως) [1], может успокоить порыв исследователя, может утишить бурю этика, если они не считают возможным успокоиться, одни – чтобы обосновать свои аксиомы, другие – чтобы опровергнуть подозрение в θέσει («положении»), в котором софисты всех времён обвиняли нравственность, тем равнозначащим вечным словом ἐπέκεινα τῆς οὐσίας [2] («по ту сторону сущности»).
Идея прекрасного, правда, также может служить хорошую службу в качестве гипотезы для всего искусства, особенно когда требуется помыслить возможность эстетического закона; но преимущественно она именуется как созерцание, как «видение». К этому видению апеллировали не только религиозные поэты, но в равной мере все художники: Рафаэль и Микеланджело, Моцарт и Бетховен, Шиллер и Гёте; но не в меньшей степени также Шекспир и Аристофан. Всякое подлинное произведение искусства должно быть созданием внутреннего чистого созерцания. Как такое видение, как такого рода создание, идея есть то, что «божественно среди богов шествует, образ». Как такая собственная природа, прекрасное возвышается над теми средствами, которые выставляет в качестве подлинных опор искусство, не выдержанное идеей, не доросшее до идеи: подражание. Как Платон-математик порицает математику и астрономию, поскольку они не умеют обращаться с вещами как с примерами (παραδείγματα), так он отвергает и искусство, которое хромает на подражание и не способно возвыситься до созерцания и порождения прекрасного.
В идее, в созерцании и, соответственно, в образе или форме заключается в то же время и более определённое методологическое средство создания художественного произведения. Всё, что должно соответствовать идее, должно быть оформлено чисто (καθαρῶς). Во всём прекрасном – в образах, красках и звуках – чистое и ясное есть то, что являет истину. [3] Как геометрические формы и математические понятия вообще, хотя и вызванные восприятием, должны быть приведены к истинному бытию в чистом созерцании, так и художественное произведение получает свою истину через чистые формы, чистые краски, чистые звуки. Чистое есть средство порождения подлинного бытия и истины.
Но Платон обсудил для искусства ещё одно важное понятие – понятие удовольствия, и для него также разъяснил требование чистоты. Удовольствие в истинном искусстве должно быть свободно от вожделения и не смешано с неудовольствием, которое есть выражение вожделения и страсти. Хотя он и высказывает, что не только в трагедиях и комедиях на сцене, но и «во всей трагедии и комедии жизни» [4] удовольствие и неудовольствие смешаны, он тем не менее определяет и требует «чистых удовольствий». Чистота означает, таким образом, не только метод для порождения истинно сущего как такового в науке и искусстве; но в то же время и для нравственности – требование истинных отношений добродетели, а также установления субъективного душевного состояния, соответствующего этим этическим отношениям.
И это психолого-этическое значение чистого удовольствия идёт на пользу требованию искусства, равно как и само искусство способствует этому. Чистота представляет, таким образом, в этом отношении обособление души от смешений, которые, казалось бы, характеризуют чувственность; сосредоточение на одной, удалённой от многообразия влечений, цели. Требование чистоты касается чувства и означает для него, которое в ином случае, казалось бы, должно оставаться запутанным и колеблющимся, ничто иное, как возможность идеализации.
Эта идеализация души для восприятия искусства и для художественного творчества находит еще более глубокое выражение в другом понятии, действующем в исходной точке платоновской спекуляции. «Желание», как в новейшее время [5] был истолкован ἔρως «Пира», обозначает более интимное и всеобъемлющее отношение сознания к прекрасному, нежели «божественное безумие» «Федра». Любовь, несмотря на кажущуюся широту определения, тем не менее точнее является источником прекрасного, корнем искусства. Здоровье любви, чистота небесного стремления к глубочайшему единению человеческих душ – это было и остается происхождением всякого искусства; и именно этой здоровой чистоте во все времена соответствует высота художественных достижений и сила эстетического восприятия. Платон отвел Аристофану значительную роль среди проповедников Эроса. Он заслужил ее; ибо он порицает Еврипида за то, что тот называет любовь «болезнью» и выводит на сцену братскую и сестринскую любовь. Любовь – не рок души; искусство, по крайней мере, должно чтить ее как свое провидение.
Таким фундаментальным образом, охватывая одновременно и метод искусства, и отношение эстетического сознания, Платон предвосхитил эстетику – и все же он не может быть назван ее основателем в том же или подобном смысле, в каком он должен считаться подготовительным основателем критики познания и этики. И именно потому, что он обосновывал познание через науку и добродетель, он не мог выступать за эстетику как самостоятельную науку. Искусство пребывало в пышном расцвете: изобразительное – с памятниками, достигающими уровня существования природы, и поэзия – с энергиями, превосходящими реальные события. Этим силам предавалась не только жаждущая зрелищ толпа, но в не меньшей степени и сонм публичных учителей. «Мнимые мудрецы» провозглашали искусство началом и концом всякой мудрости; ибо, как Гомер вмещает в себя всю мудрость, так, говорили они, толкование поэтов всегда будет подлинной наукой. Искусство с его тайным смыслом софисты считали наукой и этикой. Если Платон хотел обосновать науку и этику, то он должен был лишить искусство его мнимого всемогущества: стремиться свести его к математической истине и нравственности. Самый свободный среди всех мыслителей от педантичной мудрости искусства, поэт-философ должен был препятствовать становлению эстетики как самостоятельной дисциплины.
Следовательно, с точки зрения систематической эстетики, нельзя одобрить того, что Платон, из любви к безмерной силе и достоинству идеи Блага, растворяет Прекрасное в Благе. То, что он признал и обосновал Прекрасное как принадлежащее содержанию духа, делает его вождём среди предшественников эстетики. Однако то, что он, ради идей научной истины и особенно ради идеи Блага, удержал эллинскую калокагатию (В немецком идеализме калокагатия понимается как совокупность хорошего физического и духовного воспитания), является принципиальной ошибкой его эстетических рассуждений. Благо не должно, по его выражению, «укрываться» в Прекрасном. Но точно так же и Прекрасное, по своему обоснованному значению, не должно было подчиняться целям Блага.
Платон нанёс вред эстетике двусмысленностями, которых он едва ли мог избежать в характеристике подлинного вида науки, её полного сознания и её уверенности перед лицом изобразительного искусства и фантастики, равно как и перед несамостоятельной и несовершенной теорией искусств. Конечно, он не меньше послужил и самим искусствам, установив идеал науки через эту строгость. Но то, что он, ради самостоятельности идеи Блага, должен был отражать притязания искусства с его прелестями, хотя и возвысило нравственность, но не способствовало ни самим искусствам, ни тем более эстетике. Ибо искусство, конечно, должно быть нравственным, но только в себе и через себя.
Таким образом, эстетика как часть системы должна признавать нравственность и подтверждать её на своём уровне, но именно на своём уровне, согласно мере собственной силы и достижений, а не путём следования чужим предписаниям и заимствования чужих принципов. Из заимствования не возникает нравственность. И заимствование нигде не может сделать излишней силу собственных принципов. Хотя эта сила и присутствует в идее Прекрасного, она грозит стать бесполезной, если «всё благое должно быть прекрасным».[6] Это, по-платоновски выражаясь, может быть относительно правильно, но само по себе не истинно. Может существовать «общность идей» блага и прекрасного, но следует отвращать благонамеренное заблуждение, будто благо само по себе сообщает красоту, будто если не сама идея прекрасного, то хотя бы отдельное прекрасное гарантировано идеей блага.
Против этой высокомерной моральной и идеальной всесильности Платона в целом трезвый взгляд Аристотеля на действительность может показаться для нашей проблемы особенно благотворным, так что благодаря ему преданный интерес к мощной энергии искусств мог привести к самостоятельной теории последних; ведь у нас даже есть некоторые посвящённые этой проблеме сочинения Аристотеля, – правда, что знаменательно, наиболее хладнокровное из них – «Риторика».
Однако разве можем мы ожидать от Аристотеля верного понимания систематического обоснования эстетики – понимания первоосновы, единства различных направлений культуры? Правда, и Аристотель указывает на такое единство, а именно – на опыт. Но опыт – не порождающий источник, а просто случайная причина. Происхождение всей культуры не выводится из творящих сил идей, в которых частные основания получают свой всеобщий, но созидательный принцип; повсюду ключом к разгадке философских загадок оказывается антропологическая генетика.
В таком антрополого-генетическом удовлетворении Аристотель усматривает истоки искусства в подражательном инстинкте человека, как и всех животных. Человек есть лишь τὸ μιμητικώτατον («наиболее склонное к подражанию»). Как и все науки, искусства также возникают из подражания. Для человека «врождённо (σύμφυτον) подражать… и находить удовольствие в подражаниях»[7].
Если принять наиболее благоприятный взгляд на подражание, то в нём не была бы подавлена вся свободная деятельность; ибо подражать следует не случайному, а вероятному и тому, что происходит в большинстве случаев, более того – даже οἷα εἶναι δεῖ («тому, каким оно должно быть»)[8]. Однако природный инстинкт подражания остаётся ведущим мотивом. Но кто укажет художнику, каким должно быть его произведение? Должен ли он во всех смыслах и в полной мере искать наставлений у науки? Видно, что это не основание основ; это не основание, развёртывающееся в доводы, где частные аргументы обретают самостоятельность и остаются плодотворными.
В систематическом смысле Аристотель не мог обосновать эстетику уже потому, что расщеплял дух на теорию и практику. Если же они изначально не едины, то искусство не может найти в них единства своего основания. Если мы снова возьмём этическое воззрение Аристотеля с наиболее благоприятной стороны, если мы будем понимать катарсис как можно менее физиологически, а скорее как облагораживание и одухотворение аффектов, то этим всё равно не определяется правильное отношение искусства к нравственности, ни тем более не намечается здоровое его определение. Ибо даже если мы освободим Аристотеля от всякого ремесленного понимания соотношения искусства и нравственности, то есть лишь одно средство, которое защищает от вывода, будто мораль есть цель искусства: это осознание того, что мораль, напротив, есть одно из средств искусства.
Это осознание остаётся чуждым тенденции Аристотеля, ибо даже его классификация поэтической деятельности не направлена на то, чтобы отвести искусству положение, равное теории и практике. Уже сам способ разделения двух видов νους (ума) препятствовал прояснению вопроса: не следует ли наряду с наукой и нравственностью признать и искусство как самостоятельную духовную энергию? Дух не достиг несомненного единства в этих двух видах; как же Аристотель мог прояснить третий элемент, с которым дух должен был примириться?
Но даже отвлекаясь от дуалистического характера аристотелевской метафизики, можно понять, что на этой почве искусство не могло быть поставлено в единство с наукой и нравственностью. Не только отсутствуют, вместе с идеями, порождающие силы науки, с которыми могли бы сравниться идеи искусства; но в особенности его этика высмеивает те идеалистические ценности как «поэтические метафоры» и как κενολογειν (пустословие). Нравственная ценность и цель для этого сократика culminate в эвдемонии. Искусство же, напротив, презирает то блаженство, которое свойственно даже богам, не говоря уже о людях; оно создаёт собственные цели, собственные радости; и менее всего оно страшится страданий. Последнее, кажется, Аристотель сам признавал в отношении трагедии. Но мысль – если она вообще у него была – не становится центральной: что искусство возвышает человека над обычными радостями и страданиями. У Платона многозначный, но подлинный и незаменимый Эрос есть гений искусства. И в любви изображается всякое нравственное стремление и благоволение. В морали Аристотеля на место любви встала дружба. Из этого смещения источников проистекают узость и прозаичность аристотелевского взгляда на искусство. Общий источник, из которого искусство могло бы проистекать совместно с наукой и нравственностью, оказался засыпан. Даже ко всей нравственности дружба привести не может, не говоря уже о науке и искусстве, не говоря уже о философии искусства.
В основополагающем настрое Эроса родствен своему основателю Плотин, посвятивший свою первую эннеаду прекрасному. Именно ему свойственна мысль – почтенный знак его этико-эстетической внутренности: что внешне прекрасное не может быть внутренне безобразным. Красота, как и всё подлинное сознание у Плотина, мыслится духовно. И подобно тому, как Плотин глубоко понимает творчество и порождение в математических идеях, вверенных созерцанию идеи, так и идея прекрасного есть творящий Логос, который как форма побеждает материю, как свет даже порождает цвет. Логос же есть сам разум. Поэтому Фидий не мог создать Зевса по чувственному образцу, но «он представил его таким, каким бы он явился, если бы Зевс пожелал предстать перед нами посредством глаз»[9]. Он взял его, следовательно, из своего творящего Логоса.
Однако у Плотина Логос двойствен, и он остается двойственным у всех возрожденцев пантеизма тождества: он означает индивидуальный дух и первосущность. Поэтому уже у Плотина созерцание Прекрасного есть самосозерцание и соединение с первосущностью. «Ибо все, что видят в зримом, видят извне. Но нужно перенести это в себя самого и увидеть как Единое, и увидеть как себя самого, подобно тому, как кто-то, увлеченный богом, Фебом или Музой, вызывает в себе созерцание бога, если имеет силу увидеть бога в себе самом»[10]. Так перед абсолютной первосущностью возникает любящий разум (γοῦς ἔρων), в котором душа становится духом, а дух – подлинно Единым, а именно в соединении с первосущностью, которая поэтому, как и Я, есть первоисточник Прекрасного. Во всяком ином мышлении дух остается «Единым и Двумя». Лишь в «экстазе» Прекрасного совершается подлинное соединение, «упрощение», в котором бог уже не остается «вовне».
Таким образом, Плотин – более язычник, чем Платон; имманентность бога и мира уже благодаря сопротивлению, которое он должен был оказывать гнозису, подчеркнута решительно. Ни бытие, ни благо не должны находиться по ту сторону, за пределами духа и за пределами Я. И поэтому лишь в добропорядочно-языческом смысле первосущность есть первоисточник Прекрасного; а именно, первосущность в своем пантеистическом двойном значении, в котором она столь же определенно означает погруженное в бога Я. И все же благодаря этому, хотя имманентность греческого мира богов и была спасена перед лицом – как полагал Плотин – мелкодушного понимания, которое не распространяет божественное на весь космос, а в лучшем случае ограничивает его людьми, однако идея Прекрасного перешла при этом в общий разум адъективно, в γοῦς ἔρων.
Потеряло ли при этом Благо, мы здесь спрашивать не будем; равно как и не станем спрашивать, не остается ли само Прекрасное в этом дифирамбе слишком кратким: достаточно иметь в виду, что идея Прекрасного в ее самостоятельности по отношению к идее Блага остается ущемленной. У Плотина Прекрасное становится великолепнее, могущественнее, всеобъемлющее; но эстетика начинается там, где идея Прекрасного становится как систематическая идея своеобразной и как таковая – самостоятельной.
Поэтому, строго говоря, эстетику в отношении ее принципиального и самостоятельного обоснования можно назвать современной наукой, поскольку она есть современный интерес.
Она стала возможной лишь в новое время, с тех пор как существует спор о вере и знании. Этого спора греческая древность в современном смысле не знает. Философов, правда, изгоняют и травят, потому что они учат о новых богах. И все же религиозная вера – скорее вопрос политической благопристойности, а не душевной нужды. По замечанию Зольгера, даже гомеровских богов окружает ирония. И если теология наивна, то именно философы первыми предъявляют притязание на истину и достоверность, но тем самым пробуждают или укрепляют и сомнение в их возможности. Философы, которых касается не столько отдельный результат науки, сколько ее целое, испытывают и провозглашают достоверность, в которой состоит разум. Но делают они это не столько против притязаний веры, сколько перед лицом ее небрежности и беспечности: перед лицом недостатка веры в истину. Лишь человеческая истина должна была зажечь божественную.
Настоятельно и противоположно притязание науки на истину могло стать лишь в эпоху Возрождения, потому что оно было отпором против страшной arrogance теологического догматизма. Средневековье отвергло человеческую истину, презирало науку о природе; лишь истина спасения должна была считаться истиной, лишь морали – и именно в вере и рядом с ней – должна была принадлежать достоверность. Против этого новое время в nuove scienze возвысило гордость знания. Теперь проверка условий, на которых покоится эта ценность знания, становится делом, главным делом всей философии, как, впрочем, и науки: открыть, очистить и определить условия, на которых покоятся сила и плодотворность знания. Теперь выражение моральной достоверности начинает принимать ту роковую двусмысленность, под которой этика как способ познания страдает до сих пор.