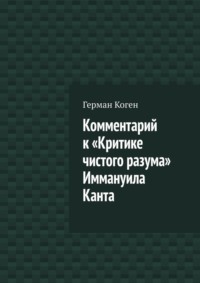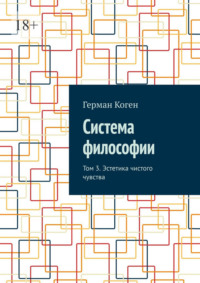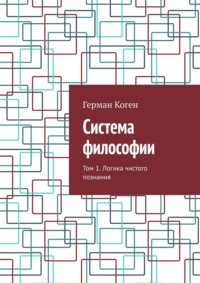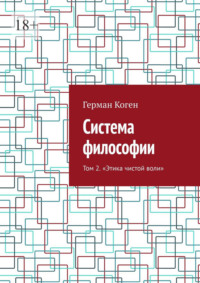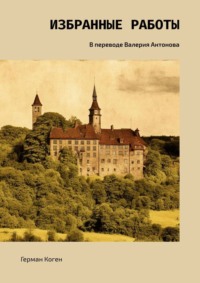Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
Однако этот вопрос не ставится, и поэтому методологическая ценность рисунка, а в нём – идеала, ещё не получает ясного определения. Поэтому можно понять, что рядом с контуром, хотя он и был назван «высшим понятием», ставится драпировка и описывается её преимущество у греков. Наряду с драпировкой затем в качестве дальнейшего преимущества греческих произведений указывается «благородная простота и величавое спокойствие как в позе, так и в выражении». В знаменитом описании Лаокоона говорится: «Выражение столь великой души далеко превосходит создание прекрасной природы»[47]. И здесь сначала, кажется, выделяется лишь свойство, абстрагированное от воздействия на зрителя, поскольку «благородная простота и величавое спокойствие» суть скорее моральные симптомы, демонстрирующие эстетическое воздействие, а не методологические, освещающие создание произведения искусства. Однако здесь уже в связи с «спокойствием» и «покоем» упоминается понятие, обладающее методологической силой: понятие «единства»[48]. Но эта методологическая сила понятия единства здесь ещё не раскрыта.
После трехлетнего пребывания в Риме Винкельман написал несколько эссе для «Bibliothek der schönen Wissenschaften» Кристиана Вайсе, среди которых особенно важна «Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunst», поскольку здесь предпринимается попытка более точного определения принципа рисунка.
«Высший предмет искусства для мыслящих людей – это человек, или лишь его внешняя поверхность, и для художника она столь же трудна для исследования, как для мудреца – внутренняя его сущность, а самое трудное – это то, что не кажется таковым: красота, ибо она, строго говоря, не поддается числу и мере»[49].
Таким образом, здесь «внешняя поверхность» человека обозначена как высший предмет искусства, но при этом она отделена от математических определений линии красоты и пропорций:
«И даже если бы прекрасное могло быть определено через всеобщее понятие – чего желают и ищут, – это не помогло бы тому, кому небо отказало в чувстве. Прекрасное состоит в многообразии в простом; это – философский камень, который должны искать художники и который немногие находят».
Однако это определение весьма общó. Видно, что реминисценции из лейбницевской школы держатся в нём прочнее, чем он сам осознаёт.
На самом деле он на этом не останавливается. Характерным образом он продолжает так, словно стремится отмежеваться от обычного понимания этой формулы:
«Лишь тот понимает эти немногие слова, кто сам выработал себе это понятие. Линия, описывающая прекрасное, эллиптична, и в ней простое пребывает в постоянном изменении; ибо её нельзя описать циркулем, и она меняет своё направление во всех точках. Это легко сказать, но трудно постичь: какую именно линию, более или менее эллиптическую, формирует различные части в красоте, алгебра определить не может; но древние знали её, и мы находим её от человека до их сосудов. Как нет ничего кругообразного в человеке, так и ни один профиль античного сосуда не образует полукруга».
Так он понимает «многообразие в простом»: как в эллипсе простое описывает «постоянное изменение». Это, полагает он, не может определить алгебра, хотя в трактате «О способности восприятия прекрасного» он упоминает «изученную краткость геометрии Декарта»[50]. Однако и здесь он не мыслит принцип прекрасного, который воплощали древние, по методе математики – как математическую конструкцию. Таким образом, принцип рисунка, контур, с которого он начал, развит – по крайней мере, по тенденции – к методической определённости.
То, что именно эллипс образует этот контур, не доказывается. Лишь выражается мысль:
«Форма истинной красоты не имеет прерывистых частей».
Следовательно, дискретное следует отвергнуть, а принцип искать в непрерывном. Но не уточняется, почему следует отвергать прямую и окружность, а выбирать лишь эллипс, который избрали древние, чьи произведения остаются конкретными образцами над всеобщими понятиями.
В то время как красоты Рафаэля «остаются среди прекраснейшего в природе», «почти все монеты» греков являют «головы, совершеннее по форме, чем всё, что мы знаем в природе, и эта красота заключается в линии, образующей профиль… Дальше этих монет человеческое понятие не может пойти, и я здесь тоже не могу».
Следовательно, понятие красоты лишь соотносится с эллипсом, но не обосновывается им.
Систематически, как он сам это обозначает, Винкельман рассматривает проблему лишь в своей «Истории искусства древности». Это развитие было дополнено развитием «Trattato». Параллельно с этим он написал ещё один трактат, который не был опубликован.
Такова была напряжённая работа, которую он, наряду с описательным изложением мыслей, посвятил проблеме обоснования.
В §§ 5, 6 сначала выражается протест против «метафизических тонкостей» и «великих всеобщих истин», затем – и притом дифирамбически – рассказывается, как он сам, как ему казалось, продвинулся к понятию прекрасного, хотя это понятие и не является «геометрически ясным», так что «канона прекрасного» не существует[51].
«Поэтому мы здесь, как и в большинстве философских рассуждений, не можем действовать по способу геометрии»[52].
Наконец, он начинает с понятия совершенства, которое установили «мудрецы, размышлявшие о причинах всеобщей красоты». Но из-за этого понятие остаётся неопределённым, поскольку человечество не может быть «способным сосудом» для совершенства. Поэтому мы остаёмся зависимыми от «отдельных знаний», которые, «собранные и соединённые», дают нам высшую идею человеческой красоты, «которую мы возвышаем, чем более можем возвыситься над материей».
Этот неоплатонический ход, которому он здесь следует, приводит его к неоплатоническому принципу:
«Высшая красота – в Боге».
В зависимости от степени согласованности с ней становится совершенным и понятие человеческой красоты. Но что отличает высшее существо от несовершенной по себе красоты?
«То, что понятие единства и неделимости отличает его от материи».
Это, конечно, вполне в духе Лейбница. Однако бури последующего времени показали, что этого недостаточно для характеристики идеи Бога.
Но как ценность неоплатонической спекуляции вообще заключается не в содержании мыслей – несамостоятельном и ослабленном, – а в тенденции её идеалистического спиритуализма, так и здесь не следует придавать значения теологическому выражению. Уже Гёте распознал этот недостаток в боге Винкельмана и связал его с отсутствием у него нравственных и даже эстетических принципов.
«Мы не находим у него выраженных принципов; его верное чувство, его образованный дух служат ему путеводной нитью в нравственном, как и в эстетическом. Ему мерещится некий род естественной религии, в которой, однако, Бог является как первоисточник прекрасного и едва ли как существо, иначе относящееся к человеку»[53].
Но тот не Бог, кто иначе не относится к человеку. И потому в прекрасном он остаётся «источником» – не в смысле принципа, позволяющего выводить следствия, а в смысле неисчерпаемой точки соотнесения или, если мыслить буквально по-неоплатонически, как творящий первообразный Логос.
Сразу после приведённого положения говорится далее:
«Это понятие красоты подобно духу, извлечённому из материи через огонь, который стремится породить творение по образу первой разумной твари, задуманной в уме божества. Формы такого образа просты и непрерывны, и в этом единстве многообразны, именно потому они гармоничны».
Таким образом, он возвращается к понятиям единства как непрерывной простоты, которые мы знаем как действенные основные понятия из его ранних работ.
Между тем действенность этих основных понятий единства и простоты здесь развивается дальше, и они углубляются до методических основополагающих понятий.
Сначала единство и простота объясняются так, что благодаря им «всякая красота становится возвышенной». В силу единства дух никогда не может «одним взглядом охватить и измерить прекрасное и заключить и постичь его в едином понятии… и наш дух расширяется через постижение его и одновременно возвышается».
Эта важная дефиниция, сколь бы значительными ни стали её последствия, здесь, однако, не развивается дальше. Поэтому её скорее следует рассматривать как психологическое приложение, соответствующее его понятию высокой красоты.
Но именно психологическое познание прекрасного, говорит он, не может непосредственно привести к идее прекрасного. Для высшей идеи высшей красоты «не требуется никакого философского познания человека, никакого исследования страстей души и их выражения».
Есть другое, более важное, а потому и более трудное для определения понятие, которое он выводит из единства:
«Из единства следует другое свойство высокой красоты – её необозначенность, то есть что её формы не описываются ни точками, ни линиями, которые одни лишь образуют красоту; следовательно, облик, который не принадлежит ни тому, ни другому определённому лицу и не выражает никакого состояния души или ощущения страсти, ибо они примешивают чуждые черты к красоте и нарушают единство. По этому понятию красота должна быть подобна совершеннейшей воде, почерпнутой из лона источника».
Эта «необозначенность» кажется противоречащей понятию пластического. Однако именно она привела понятие идеала к методической определённости, так что теперь идеальное может быть подчинено прекрасному.
«Форма египетских фигур, в которых не обозначены ни мускулы, ни нервы, ни вены, идеальна», не будучи прекрасной.
«Необозначенность» отличает идеальное от индивидуального.
«Образование красоты либо индивидуально, то есть направлено на единичное, либо представляет собой выбор прекрасных частей из многих единичных и соединение в одно, что мы называем идеальным, – однако с оговоркой, что нечто может называться идеальным, не будучи прекрасным».
Таким образом, необозначенность есть скорее обозначение высшего, более точного рода – методическое обозначение, которое лишь в противопоставлении случайным, данным, эмпирическим определённостям индивидуального как единичного называется – в полемической иронии – необозначенностью. Однако она обозначает не только не-единичное, но и несёт в себе характер и силу метода обозначения.
Эту ценность необозначенности, благодаря которой она порождает идеал, позволяют увидеть дальнейшие рассуждения, в которых вновь появляется эллипс:
«Формы прекрасного тела определены линиями, которые постоянно меняют свой центр и, будучи продолжены, никогда не описывают окружности, следовательно, они проще, но и многообразнее, чем круг, который, как бы велик или мал он ни был, имеет тот же центр и включает другие или сам включается в них. Это многообразие греки искали в произведениях всякого рода, и эта система их понимания проявляется также в форме их сосудов и ваз, стройный и изящный контур которых проведён по тому же правилу, то есть линией, которую нужно найти через несколько окружностей; ибо все эти произведения имеют эллиптическую фигуру, и в этом заключается их красота. Чем больше единства в соединении форм и в соразмерности одной из другой, тем больше красота целого».
Таким образом, можно понять, что Винкельман связывал с понятием необозначенности, которое он как понятие не эксплицировал, представление: оно должно обозначать ту линию, которая, подобно эллипсу, хотя и замкнута в себе, тем не менее представляет наибольшее многообразие исходящих друг из друга линий.
Такое исхождение, такое «соизмерение» могло бы, казалось, изображать и прямую; однако она бесконечна. Круг же, будучи замкнутым, имеет свой центр и потому не может, как эллипс, представлять излучение большого и закономерного многообразия линий.
Таким образом, необозначенность способна в некоторой степени прояснить методическую ценность эллипса.
Теперь более не существует отношения подчинения между прекрасным и идеалом; ведь не только египетские фигуры идеальны: даже греческие, хотя и не нарисованы прямыми линиями и углами, также идеальны. «Как пчела собирает с многих цветов» или «как искусный садовник, прививающий различные отростки благородных видов к одному стволу», так и «мудрые художники» греков стремились «соединить прекрасное из многих прекрасных тел». Здесь вновь появляется Бернини: «Бернини вынес весьма необоснованное суждение, когда считал выбор прекраснейших частей… нелепым и вымышленным, ибо он воображал, что определённая часть или член гармонирует лишь с тем телом, которому принадлежит. Другие не могли мыслить иначе, как в категориях индивидуальной красоты», – и он разоблачает их порочный круг: «их тезис таков: древние статуи прекрасны, потому что подобны прекрасной природе, а природа всегда будет прекрасной, если подобна прекрасным статуям. Первое утверждение истинно, но не в отдельности, а собранное (collective), второе же ложно: ибо трудно, даже почти невозможно, найти растение, подобное Ватиканскому Аполлону». Теперь, как мы видим, мысль достигла чисто методического понимания: что искусство превосходит природу, а именно «collective», в целом, благодаря «выбору частей», следовательно, через идеал, через «необозначенность» (Unbezeichnung).
Прежде всего, выбор получает значение. «Этот выбор прекраснейших частей и их гармоничное соединение в одной фигуре порождал тождественную красоту, которая, таким образом, не является метафизическим понятием, так что идеал присутствует не во всех частях по отдельности, но может быть высказан лишь о целом облика. Ибо по частям в природе встречаются столь же высокие красоты, какие только искусство могло создать, но в целом природа должна уступить искусству». Теперь противопоставление природы и искусства действительно преодолено, без того чтобы понятие идеала рисковало погрузиться в неясность, в «метафизическое понятие»: в «целом» природа уступает искусству. Целое создаётся через выбор частей. Как целое, а не как собрание частей, «особенно» присутствующих в одном индивиде, мыслится идеал.
С этой высоты понимания упрёк Рафаэлю также обретает более определённую форму. Ему не нужно было бы создавать свою Галатею по «некой Idea, которая даёт лишь воображение». Он не боится утверждать, что такое «суждение проистекает из недостатка внимания к тому, что прекрасно в природе». В отдельных частях, например, даже в лице, в природе есть более прекрасное, чем Галатея Рафаэля; но в целом нет ничего прекраснее Ватиканского Аполлона. Противоречия, которые даже Юсти признаёт в высказываниях Винкельмана в этом отношении, таким образом, для Винкельмана справедливо отсутствуют: лишь в отдельности природа прекраснее искусства, но не в целом.
Однако сила искусства заключается вовсе не в отдельном; красота не является исключительно или преимущественно индивидуальной, но идеальной. А идеал заключён в целом облика. Эту тенденцию выбора обозначает «необозначенность». И сила этой тенденции должна заключаться в эллипсе. Переведённый с языка методических понятий в историю пластики, идеал, проявляющийся в «необозначенности», которая действует в эллипсе и методически осуществляется, распознаётся в выдающихся воплощениях идеала. Прежде всего, это юношеская фигура, которая характеризуется как идеальная. «Но поскольку в этом великом единстве юношеских форм их границы незаметно перетекают одна в другую, и для многих точная точка высоты и линия, её очерчивающая, не могут быть точно определены, то по этой причине изображение юношеского тела, в котором всё есть и должно быть, но не кажется и не должно казаться, труднее, чем мужской или зрелой фигуры, ибо в последней природа завершила формирование своего строения, следовательно, определила его, в первой же начинает вновь разрушать своё здание, и потому в обоих связь частей явственнее предстаёт перед глазами; в юношеском же теле формирование словно оставлено неопределённым между ростом и завершённостью». Таким образом, идеал юношеского облика заключается в «необозначенности», которую он воплощает, тогда как зрелый облик уже явно демонстрирует «связь частей» и потому более не соответствует идеальному требованию искусства.
Как таковая «необозначенность», юность богов представляет то, что должна представлять: неизменность божественной сущности.[54]
Это формирование идеала, создание целого облика через выбор частей, Винкельман иллюстрирует на примере фигур, возникающих от соединения полов и даже от соединения человека и животного. Сверхнатурализм, который, как в характеристике гермафродитов, должен был вызвать возражения, вернее, следовало бы назвать инфранатурализмом, объясняется этой чрезмерностью методической мысли, в силу которой он определяет идеализацию.
Между тем методическая сила этой мысли простирается дальше и глубже: идеальное целое становится духовной природой – не в догматическом или риторически-спиритуалистическом, а в подлинно идеалистическом смысле: духовный облик, эфирная форма становятся методическим прообразом, предварительным наброском, образцом для создания и нового творения. Хотя «История» уже высказала эту мысль, но лишь в «Trattato preliminare» она получила последовательное развитие.
Пятая книга начинает характеристику формирования юных божеств новыми выражениями для идеи выбора, чтобы через них подчеркнуть творчество, заключённое в выборе. «Это извлечение прекраснейших форм словно сплавлялось, и из этой совокупности, как через новое духовное рождение, возникало благороднейшее создание… Ибо дух разумных существ имеет врождённую склонность и стремление возвыситься над материей в духовную сферу понятий, и его истинное удовлетворение – создание новых и утончённых идей. Великие художники Греции, которые считали себя словно новыми творцами, хотя работали менее для разума, чем для чувств, стремились преодолеть грубый предмет природы и, если бы это было возможно, вдохнуть в неё жизнь». Так возникли «образы высших натур», так возникла «духовная природа», «превосходящее человечество создание», для чего он ссылается на «Софиста» Платона.[55]
Наконец, он поясняет «божественную самодостаточность» мнением Эпикура, который даёт богам тело, но словно тело, и кровь, но словно кровь, что Цицерон находит тёмным и непонятным». Здесь, таким образом, «итальянский идеализм» вознёсся до кажущегося отрицания пластической основной мысли: тело должно быть лишь «словно телом». «С такими понятиями природа возвышалась от чувственного к несозданному». Так возникли фигуры, «которые кажутся лишь оболочками и облачениями мыслящих духов и небесных сил».[56] И если от героев вновь восходить к богам, «то это происходит более через убавление, чем через прибавление, то есть через постепенное отделение того, что угловато и сильно обозначено самой природой, пока форма не утончится настолько, что кажется, будто в ней действовал один лишь дух».[57] Здесь мы видим неоплатоническую идею как духовную форму, безоговорочно признанную и принятую. В то время как идеал исходит из преодоления исключительно индивидуального, он сам, чтобы оставаться идеалом, а не идеей, должен вновь реализоваться в индивиде. Это неизбежное требование признаётся и выполняется здесь в «духовной природе», в «quasi corpus».
Наконец, в характеристике стилей он возвращается к этому обозначению для образов высокой красоты. Их отличительной чертой у Ниобы является не видимость твёрдости, а «словно вновь созданное понятие красоты».[58] «Эта красота подобна идее, полученной не через чувства, которая могла бы быть порождена в высоком разуме и счастливом воображении, если бы оно могло приблизиться к божественной красоте; в таком великом единстве формы и очертания, что она кажется не с трудом созданной, а пробуждённой, как мысль, и словно выдохнутой с одним дыханием». Обычный взгляд, с помощью чувств и разума, а иногда и воображения, порождающий идею, образ, не удовлетворяет его стремлению к методическому пониманию, соответствующему его предметному воодушевлению: он хочет, чтобы «единство формы и очертания» было объяснено. Но это требование означает ничто иное, как центральную проблему познания: отношение геометрических форм к материальному телу.
Этот сложнейший пункт, суммирующий все вопросы и касающийся всего познания, а не только познания прекрасного, Винкельман обсуждает в Trattato. Как и в «Истории», он и здесь исходит из красоты в Боге и понятий единства и простоты, называет возникающие части «изменениями единства» и уже в самом единстве усматривает «неопределённость» (Unbezeichnung). Эта мысль, хотя, возможно, и не столь сдержанно выраженная, присутствует и в «Истории». Однако новое здесь заключается в следующем.
В §10 он различает в единстве материальное и моральное. Последнее относится к выражению и связано с положением фигур. Материальное же единство относится к формам и должно оцениваться по степени их взаимосвязи, их единства с формами. «Материальное единство, которое мы можем также назвать линейным», он описывает здесь как то, что порождает идеальную красоту. Оно способно, соответственно, изображать юность; «ибо здесь единство тем больше, чем больше линии, необходимые для формирования юношеской фигуры, хотя и отклоняются от прямого направления и склоняются к эллипсам, тем не менее, будучи образованы эксцентрическими дугами окружностей, столь плавно перетекают одна в другую, что их можно сравнить с поверхностью моря, не возмущаемого ветрами, о котором, хотя оно и находится в постоянном движении, всё же говорят, что оно спокойно. Это единство контуров, определённое мною, особенно искали греческие художники»[59]. Здесь он определяет это единство контуров как материальное единство, как единство тела.
Таким образом, выражения «фигура» и «форма» приобретают полное идеалистическое значение: геометрическая форма, фигура становится условием материальной формы, телесного содержания. Отрицательно он выражает эту мысль ещё яснее, указывая на большую опасность ошибок в юношеской фигуре: где «малейшее отклонение от контуров… где даже малейшая тень, как принято говорить, становится телом»[60]. Как следует избегать этого «теневого тела», так и правильная линия порождает тело.
Это выражение материального единства, эта сформулированная в виде афоризма мысль об отношении контура к материальной форме приводит его затем к характерному изменению сравнения с идеальными фигурами: что они «подобны эфирному духу, протянутому сквозь огонь», «так что их внешняя сторона как будто служит телом эфирному существу, ограниченному в крайних точках и облачённому в человеческий облик, но не участвующему ни в материи, из которой состоит человечество, ни в человеческих нуждах. Таким образом оформленное существо поясняет мнение Эпикура» о quasi corpus.
Если сопоставить это высказывание с основной мыслью Винкельмана о том, что красота есть красота рисунка, то тот, кто знаком с последними достижениями критики познания, не сможет не признать, что здесь пробивается к ясности нечто большее, чем неоплатоническая призрачная идея. «Внешняя сторона служит телом», правда, «эфирному существу», но такому, которое «ограничено в крайних точках и облачено в человеческий облик», следовательно, определяется лишь геометрической формой, «не участвуя при этом в материи». Таким образом, материя здесь снята в форме, так что теперь форма действительно возвысилась над материей в идеале.
Так глубоко проникает идеалистический импульс в исследовательский дух Винкельмана. Но поскольку философская школа не могла помочь ему достичь более ясного и уверенного понимания, мы понимаем, почему он не смог изложить и обосновать свою точку зрения проще, убедительнее и наставительнее. И теперь мы вкратце укажем на то, что следует признать недостатком – отсутствие ясности и определённости мысли.
Недостаток ясности его понимания проявляется, что касается материальной красоты, в его характеристике цвета.
Нередко фигура относится как к цвету, так и к форме[61]. Ведь цвет – это природное явление, которое как таковое должно быть способно к идеализации. Рафаэль отнюдь не только художник рисунка; Леонардо и Андреа дель Сарто, которых Винкельман так высоко ценит, не менее искусны в цвете, чем в рисунке, и притом являются идеалистами. Даже для ваятеля голубовато-белый цвет мрамора – момент красоты. И как в природе нет линий без цвета, так и выбор, и творение, «неопределённость» и «эфирный дух» должны проявляться в цвете. Винкельман перед навязчивой самостоятельностью колорита отстаивал позицию методиста, позицию belleza lineare. Однако то, что он не просто отодвинул цвет на второй план, но порой, казалось, вовсе исключил его, в этом перегибе принципа линии проявляется недостаток понимания методической ценности линейного принципа: а именно, что он сам должен быть распространён на цвет и соотнесён с ним.
Однако ближе нам, пожалуй, другая односторонность, касающаяся характеристики моральной красоты – красоты выражения.
И здесь можно увидеть верную тенденцию: как для рисунка он требует линии ради «чистой» красоты, так для выражения в самом движении – покоя, тишины, которую он так впечатляюще описывает как морской штиль[62]. «Покой есть у людей и животных состояние, которое делает нас способными исследовать и познавать истинную природу и свойства их, подобно тому как дно рек и морей открывается лишь тогда, когда вода спокойна и неподвижна, и потому искусство также может выразить истинную сущность их лишь в тишине»[63]. Таким образом, покой, подобно линии, мыслится как основа и инструмент для создания красоты выражения. И это правильно и остаётся таковым.