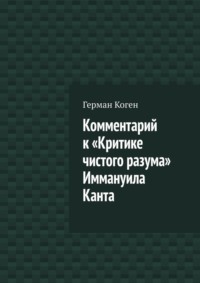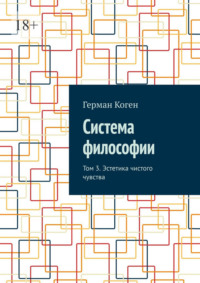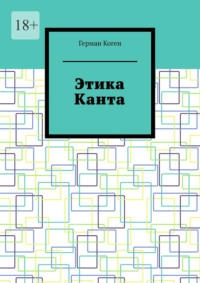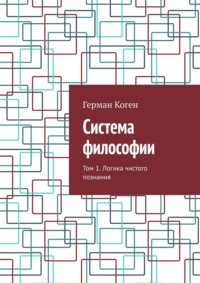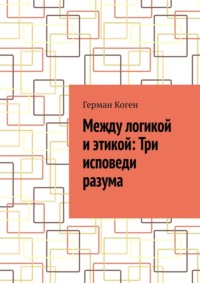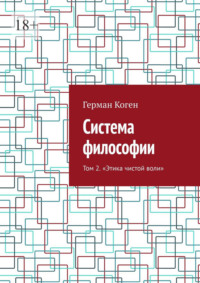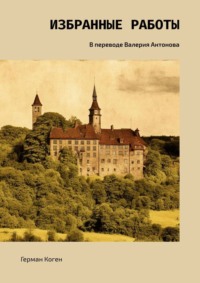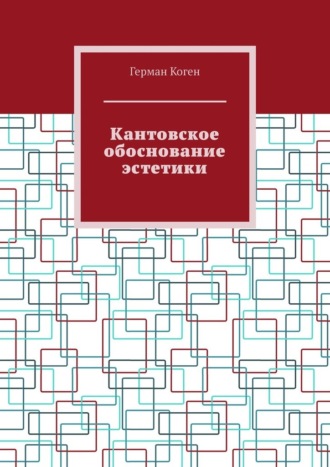
Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
Сам Мендельсон добавил к первоначальному наброску XIII пространные дополнения, которые изображают понятие идеала ещё определённее, чем в его собственных сочинениях. «Объективный идеал есть максимум красоты. Природа достигла его во всей вселенной и именно поэтому не смогла достичь во всех своих частях… Намерение художника направлено исключительно на красоту, и притом не дальше, чем на красоту изолированной части. Поэтому он должен приблизиться к идеалу ближе, чем сама природа… Идеал, как и красота вообще, присущ преимущественно только формам телесных вещей, трансцендентально же мысли, цвета, тона, движение и всякое выражение внутренних ощущений имеют свою красоту и, следовательно, свой идеал»[89]. Здесь ясно видно, как Мендельсон, хотя и мыслил идеал «преимущественно только» в телесных формах, всё же в общем мыслительном расширении, которое тогда называли трансцендентальным, перенёс его и на «внутренние ощущения».
И подобно тому как Мендельсон осуществил это расширение, которое в ранней редакции к IX ещё не было им ясно осознано, мы можем тем более приписать Лессингу это расширенное значение понятия идеала, поскольку он даже проявлял интерес к истории этого понятия. В «Коллектанеях» он говорит об итальянском иезуите Фра Лана, авторе «Magisterium Naturae et Artis», к которому в 1670 году в Брешии вышел «Prodromus», что он, кажется, «был изобретателем слова идеал». Правда, он требует, чтобы живописцы писали с натуры; ибо он не знает, почему фигура должна быть прекраснее, «dipinta a capriccio, ehe chiamano di maniera, ed io la direi ideale», чем написанная с натуры[90]. «Но Лана хочет только, чтобы они брали отдельные части с натуры, но не все части с одного и того же человека, а выбирали самые красивые части у разных. И далее теперь также ничего не понимают под идеалом»[91]. Таким образом, он напал здесь на источник, который, вероятно, был особенно доступен Винкельману.
Из этого удаления от первоначального винкельмановского значения идеала как создающего форму рисунка, возможно, объясняется и содержащееся в «Приложении» к наброску «Лаокоона» высказывание, которое должно было подвергнуться misinterpretatio, как только оно было вырвано из связи медитаций и корреспонденций, в которой возникло. «Подлинное назначение прекрасного искусства может быть лишь то, что оно способно произвести без помощи другого. В живописи это – телесная красота». Так звучит одна чрезвычайно важная заметка, особенно в своей первой части, к которой примыкает следующая, но уже под другим номером: «Высшая телесная красота существует только в человеке, и даже в нём лишь благодаря идеалу. Этот идеал уже менее встречается у животных, а в растительной и неодушевлённой природе его нет вовсе. Это и определяет ранг цветочного и ландшафтного живописца. Он подражает красотам, не способным к идеалу»[92]. Почему же нет? Неужели здесь отсутствует абстракция, или она излишня? Или разве не так же, как у человека, рисунок, линия должны порождать красоту? Но, возможно, он думал на этом листке, что ландшафтный живописец лишь рисует, тогда как живописец людей, хотя и должен рисовать, подобно поэту, имеет задачу изображать внутренние ощущения в телесном облике, а не только пробуждать их. Историческая живопись есть лишь средство. «Но я всё же предпочитаю ландшафтного живописца тому историческому живописцу, который, не направляя своей главной цели на красоту, пишет лишь груды лиц». Следовательно, живописец людей должен осуществить расширенное понятие идеала, согласно которому «высшая телесная красота» может оставаться «высшим назначением» живописи. Но эта телесная красота включает красоту мыслей, красоту «внутренних ощущений». Иначе лица неизбежно останутся «грудами».
Там же, где не требовалось расширения понятия идеала применительно к поэзии, мы видим, что Лессинг остается верным пластическому первоначальному смыслу идеала, насколько он его понимал.
Для этого существует классический пример. В «Гамбургской драматургии» он приводит длинные выдержки из примечаний Хёрда к его переводу «Поэтики» Горация (1749). Там обнаруживается, что превосходный Хёрд употреблял выражение «духовный идеал красоты»[93]. Художник, говорит Хёрд, может либо слишком точно придерживаться подражания, обозначать каждую особенность и упускать общую идею рода, либо составлять последнюю из множества черт действительной жизни, «тогда как он должен был бы заимствовать её из чистого понятия, которое находится лишь в представлении души. Это последнее и есть общий упрёк, который можно сделать школе голландских живописцев, заимствовавших свои образцы из действительной природы, а не, как итальянцы, из духовных идеалов красоты».
Это выражение могло показаться Лессингу слишком общим и недостаточно определённым, тем более что ему предшествовало «чистое понятие, находящееся лишь в душе». И тогда он делает замечание, в высшей степени поучительное, свидетельствующее о точности его мышления и глубине принципиального интереса[94]: «Согласно мере антиков». Не просто в душе находится это «чистое понятие» «духовного идеала», но антики являются мерилом. И как будто желая поддержать винкельмановскую мысль более древним авторитетом или представить её как общепризнанную истину, он цитирует знаменитое место из «Оратора» Цицерона (гл. 2), где говорится, что Фидий создавал образ Юпитера или Минервы не по индивидуальному сходству, а по species pulcritudinis eximia quaedam (некоему превосходному виду красоты), обитавшему в его духе. Однако этот species pulcritudinis имеет скорее определённость того идеала, который присущ античным изображениям. Краткое добавление «согласно мере антиков» говорит и схватывает всё глубже и точнее, чем все ссылки на идею Фидия или Рафаэля. Это добавление – влияние Винкельмана.
Как бы ни говорили многие в первой половине XVIII века об идеале и употребляли этот термин, важно обратить внимание на то, понимается ли это выражение в смысле (или хотя бы в тенденции) понятия рисунка и создания формы, а в ней – самого тела (см. выше, стр. 56 и далее). Лессинг уловил этот методический смысл выражения, если не в отношении связи рисунка и тела, то по крайней мере в отношении контура. Но поскольку ему пришлось расширить это понятие применительно к поэзии, превратив его в закон построения действий, можно понять, что он не удержал его, не говоря уже о том, чтобы углубить.
Если мы окинем взглядом предшествующую эстетику, то заметим, что, вдохновлённые англичанами и французами, авторы занимались прежде всего критикой поэтических произведений, а именно прекрасных мест в них, которые должны были иллюстрировать, какие душевные движения, конфликты и разрешения должен стремиться изображать поэт. Здесь и там, как у Хоума, указывалось, какие ошибки допустил поэт. Психология, анализ душевных процессов, особенно эмоциональных движений, составляет, таким образом, подлинную основу, тот форум, перед которым они ставят поэтов. Живописцы также принимаются во внимание, но их точно так же рассматривают и оценивают прежде всего как поэтов, тогда как поэты, в свою очередь, должны доказывать свою состоятельность живописными красотами. Во всех этих критиках, сколь интересными, поучительными, вдохновляющими и занимательными они ни остаются по сей день, отсутствует тот элемент, который, при всей связи эстетики с психологией, делает её независимой от последней и придаёт ей особый методический характер.
Этот элемент вносит в рассмотрение искусства Винкельман. И таким образом, Винкельман является подлинным первооткрывателем самостоятельной «эстетики», потому что он вводит методический инструмент идеала. Когда Мендельсон и Лессинг воспринимают его, они улучшают критику прекрасного: Мендельсон – преимущественно через утончение психологического анализа, Лессинг – через соединение психологической диалектики с антикварными знаниями и живой учёностью.
Но в основании эстетики они не делают значительного шага вперёд.
Для оправдания прекрасного они не приводят самостоятельного доказательства, а в лучшем случае лишь то, которое исходит из совокупности душевных сил, в деятельности которых они видят гений. Таким образом, прекрасное остаётся в равнозначности с добром. Отсутствует простая, или беспечная, и дерзкая мысль: что прекрасное укоренено в природной силе, что оно с природной мощью творит свои откровения, подобно тому как возникают и растут все прочие произведения духа и нравов.
Это сознание самостоятельности прекрасного в царстве культуры придал эстетике
Гердер,
теолог и народный воспитатель; он делает поэтому последний и решающий шаг в её преддверии; наряду со всем, что и он перенял и повторил у Винкельмана, он в этом своём полном осознании суверенитета искусства совершает прогресс, значительный своими последствиями; он оживляет и делает действенной мысль, плодотворность которой простирается от шестидесятых годов XVIII века на весь конструктивный период XIX века. Гайм говорит: «Что есть эта главная и основная мысль гегелевской философии, как не систематическое развитие того, что здесь, с особой отнесённостью к эстетическому, изложил Гердер?»[95]
Разумеется, этот творчески плодотворный, побуждающий к творениям Гердер – не Гердер 1800 года, не Гердер «Каллигоны», противник Канта, которого не могут одобрить даже Шиллер и Гёте; это молодой и в то же время столь зрелый Гердер, каким он был в Страсбурге, оказывая, возможно, непредсказуемое в деталях влияние на Гёте; это Гердер, в котором ещё были свежи впечатления, полученные от пока ещё докритического Канта. То, как Гердер тогда мыслил, говорил и писал, стало известно скорее через Гёте, чем непосредственно через него самого; ибо четвёртая «Критическая лесочка», созданная тогда (в 1769 году) наряду с чрезвычайно важным «Дневником путешествия» и наиболее чисто выразившая предназначенное Гердеру влияние, была опубликована лишь в 1846 году в «Жизнеописании Гердера».
«Гердер хочет дать лишь контуры будущей эстетики: правда в том, что эти контуры более систематичны и связны, чем то трёхтомное сочинение, с которым он позднее выступил против кантовского учения о прекрасном и искусствах». Так судит Гайм[96] и называет «поразительным», что Циммерман и Лотце учитывают только «Каллигону», тогда как Шёлль «с полным правом» вообще её не рассматривал. Гердер – момент в развитии немецкого духа до, а не после Канта.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.