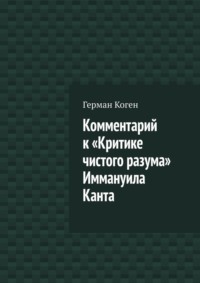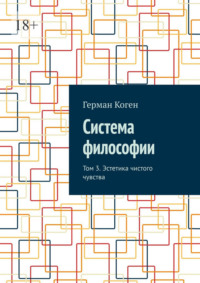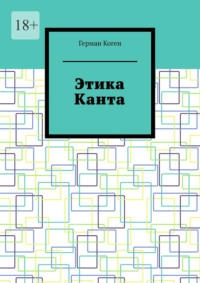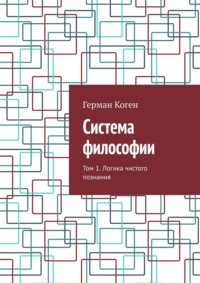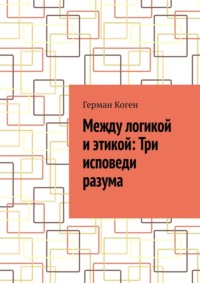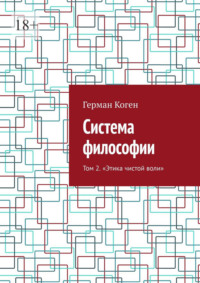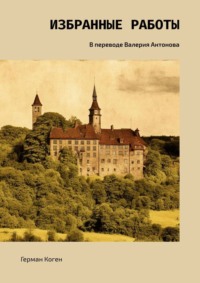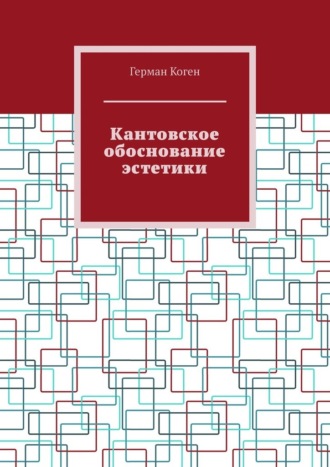
Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
Конечно, наряду с идиллией есть трагедия, и над мощью Эсхила Винкельман, пожалуй, недостаточно оценил его красоту, его простую грацию в величии, подобно тому как он и Микеланджело оценивает менее справедливо, чем Рафаэля. Право выражения, безотносительно – по крайней мере, в первую очередь – к красоте формы, право мощного, потрясающего, морального движения коренится в самой проблеме морального. Конечно, следует признать, как греческий художник в Лаокооне, как сам Эсхил в «Ниобе», соразмерил выражение «так, чтобы красота преобладала»[64], так что она «язык на весах выражения»[65]. Но недостаточно, когда он говорит: «красота без выражения могла бы показаться незначительной, а выражение без красоты – неприятным, но от действия одного на другое и от сочетания двух противоположных свойств рождается трогательное, красноречивое и убедительное прекрасное». Наряду с трогательным прекрасным требует признания потрясающее прекрасное, обличающее – наряду с убеждающим, предостерегающее – наряду с красноречивым. Мир борьбы и страстей требует самостоятельного, признанного, идеализированного выражения и не довольствуется растворением в блаженстве покоя ни преображением в мир, который красота сама по себе способна создать на весах справедливости. Он сам должен вступить в отношение к нравственным вещам, из которых поднимаются страсти; он не должен претендовать на существование рядом с нравственностью как нечто совершенно самостоятельное и независимое, но должен быть признан в своей принадлежности к сфере нравственного. Страсти – не ветры, которые извне волнуют море, а волны, в которых движутся горы и долины характера. Подобно рисунку, нравственное законодательство также должно порождать красоту, высшую природу, духовную форму. И как в рисунке прямой линии недостаточно, так и в сфере нравственного покоя недостаточно. Для измерения моря, конечно, нужен штиль. Но страсти – не просто природа, они принадлежат к сфере морального. Лот должен погрузиться в их бурные волны, если они должны быть изображены как искусство. Конечно, красота должна оставаться господствующей, но расширенная красота, развитая из царства нравственного, а не только из царства природного и возвышенная над чувственностью природы.
Винкельман не признал самостоятельность нравственного начала по отношению к прекрасному; не понял, что нравственное является элементом прекрасного ничуть не менее, чем природа, и потому не развил далее его принцип – рисунок ради идеала. В этом заключается методологический недостаток его эстетического энтузиазма, его пластической автаркии. Это причина глубокого изъяна в его положении о Боге как источнике красоты. Линейная красота совершенно не принадлежит к понятию Божества. А моральная красота должна быть определена через позитивное признание, если теософское выражение должно содержать этическое значение и, следовательно, эстетическое обоснование. В этом также заключается опасность тезиса: «непоколебимо твердое во мне убеждение, что добро и прекрасное суть одно и то же»[66].
Значение нравственного как самостоятельного элемента красоты, как элемента, который положен в основу прекрасного в качестве предпосылки, а не совпадает с ним или даже не творится им, как одного из звеньев, в соотношении которых красота существует и осуществляется, – это принципиальное значение нравственности для искусства Винкельман не осознал. Поэтому он лишь терпел выразительную красоту и поместил ее в Бога, вернее, в богов, которые пребывают в блаженном покое, свободные от трагических страданий и их разрешения в мире людей.
В заключение схематически сведем основные понятия:
Единство:
Линейность – Материальность
Эллипс – Простота
Неопределенность – Юность
Идеал – quasi corpus.
Заслуга Винкельмана перед эстетикой состоит прежде всего в характеристике идеала; но он так проникновенно, а также неоднократно обозначил и описал «внутренний смысл», «внутреннее чувство» и «ощущение»[67], что должен был дать более глубокий импульс для психологических ориентировок в сфере эстетики.
«Что касается немецкой философии, то первым воспользовался элементами Винкельмана для своей теории Мендельсон, вплетя учение об идеале в свою эстетику»[68]. Это влияние заметно не только в отношении психологической терминологии у Мендельсона, но и в отношении всего соотношения философского интереса к искусству. Однако этот интерес не может быть выявлен и утвержден более определенно и решительно, чем через упорядочение отношения природы и искусства.
До первой работы Винкельмана вышли «Письма об ощущениях» Мендельсона (первое издание – 1755). В пятом из них из смешения Мопертюи красоты с совершенством делается вывод, что «удовольствие от чувственной красоты, от единства в многообразии, следует приписать исключительно нашей неспособности. Существа, наделенные более острыми чувствами, должны находить в наших красотах отвратительное однообразие… Так неужели Творец не испытывает удовольствия от прекрасного? Неужели Он даже не предпочитает его безобразному? Я утверждаю: нет; и природа, дело Его рук, должна свидетельствовать в мою пользу. Лишь внешнюю форму вещей Творец одарил чувственной красотой. Они предназначены воздействовать на чувства других существ как нечто прелестное»[69]. Соответственно, красота противопоставляется как «земная Венера» небесной, а именно «превосходнейшему совершенству». Та «основана на ограничении, на неспособности»; это «основывается на положительной силе нашей души… и настолько, насколько положительная сила возвышается над своей ограниченностью, настолько удовольствие от постижимого совершенства превосходит удовольствие от чувственного, или, как мы, земные, его называем, удовольствие от красоты».
Это назидательное принижение красоты не содержит ничего неожиданного, оно последовательно в системе, которая делает смутное представление наследственным уделом всего прекрасного. Конечно, автор системы не страдал от этой последовательности; он не отказывался от права красоты в природе. Низкий уровень «Писем об ощущениях» заключается в том, что отношение искусства к природе, а следовательно, подлинное, самостоятельное и положительное основание эстетического «удовольствия» еще не найдено. В этом главном вопросе ничего не меняет и «Рапсодия, или Добавления к письмам об ощущениях», впервые опубликованная во второй части «Философских сочинений» в 1761 году.
Подлинно эстетическое сознание впервые обнаруживается в трактате «О главных основаниях изящных искусств и наук». «Красота есть самодержавная властительница всех наших ощущений, основа всех наших естественных побуждений и одушевляющий дух, превращающий умозрительное познание истины в ощущения и побуждающий к деятельной решимости. Она пленяет нас в природе, где мы встречаем ее первоначально, но в рассеянном виде, и дух человека научился воспроизводить и умножать ее в произведениях искусства»[70]. Одно слово «рассеянно» выдает влияние Винкельмана. И так же, как тот уже подчеркивал круг в слове о подражании прекрасной природе, Мендельсон возражает Баттё, который делает это, «как до него многие уже утверждали», принципом прекрасного: «Подражание природе есть единственное средство нравиться. Может быть! Но что же здесь становится понятнее? Разве природа не нравится и без подражания? Какими же средствами величайший художник добился того, чтобы нам нравился оригинал?… Мы повторяем, следовательно, наш вопрос, и притом в более общем виде: что общего между красотами природы и искусства, какое отношение имеют они к человеческой душе, благодаря которому они ей так нравятся?»[71]
Здесь признается красота природы; но первоначальной красотой считается красота искусства, природа в отношении понятия красоты мыслится как своего рода искусство, и обе выводятся из души. Эстетическая теория Мендельсона есть плод его психологии, каковым, возможно, был и его первоначальный интерес. «Возможно, то, что известно о нашей душе из теории, приближает нас к нашей конечной цели». Таким образом, он стремится к связи между душевными силами, в особенности также к связи с «способностью желания». Лейбницевское понятие совершенства он истолковывает как совершенство, выводимое из взаимодействия душевных сил, как «совершенство художника»[72]. «Произведения искусства суть видимые отпечатки души художника… Это совершенство духа возбуждает несравненно большее удовольствие, чем простое сходство». Правда, это отношение искусства к художнику сначала истолковывается физико-теологически, направляется на совершенство божественного мастера; однако акцент ставится на гении. «Гений требует совершенства всех душевных сил и их согласованности для единой конечной цели».
Из этого нового значения совершенства обозначается как «сущность изящных искусств» (правда, также «и наук»): «представленное через искусство чувственное совершенство»[73], то есть совершенство гения, художника.
Но это совершенство художника проявляется в создании идеальной красоты через расширение и возвышение природы. «Возможно ли, чтобы ограниченное пространство, которое мы можем наблюдать в природе, чтобы это пространство, поскольку оно воздействует на наши чувства, исчерпывало все свойства идеальной красоты?… Что природа рассеяла в различных предметах, он собирает в единой точке зрения. Ничто иное не означают обычные выражения художников: украшать природу, подражать природе и т. д. Они хотят изобразить определенный предмет так, как его создал бы Бог, если бы чувственная красота была его высшей конечной целью… Это есть совершеннейшая идеальная красота, которая в природе встречается нигде, кроме как в целом… Художник должен, следовательно, возвыситься над обычной природой… Фигуры природы знатоками ваяния ставятся ниже антиков»[74].
Так явно Мендельсон выказывает влияние Винкельмана, даже помимо различия между «рассеянно» и «в целом», как он и цитирует Винкельмана прямо[75].
Мендельсон исходил из пренебрежения красотой природы, а именно – по сравнению с совершенством природы, доступным лишь разуму. Однако идеализация позволила ему распознать красоту искусства как опосредованное совершенство, а именно – переданное через мастерство художника. И, отправляясь от идеализации художника, он постиг мысль о красоте природы как о том, что «общо природе и искусству»; научился понимать, что и при восприятии красоты природы «необходимо делать выбор». Таким образом, была установлена фундаментальная значимость идеала как основного эстетического понятия для природы и искусства. И это установление имеет принципиальное значение, поскольку только благодаря ему, при сохранении всей необходимой связи, становится возможным столь же необходимое различение между эстетикой и моралью. Пока предполагаемая красота природы мыслится как самостоятельная и изначальная, она мыслится по образцу физико-теологического доказательства бытия Божия, при этом собственно эстетическое, самостоятельное остаётся нераспознанным. Если же идеализация признаётся источником прекрасного, то мысль о божественном мастере становится сравнением, тогда как гений превращается в изначальное понятие, объясняющее порождение прекрасного. Однако гений уже мыслится как психологическое выражение для творца, если не исключительно, то преимущественно эстетического. Это уже обозначает истолкование понятия совершенства, с которым оперирует зарождающаяся эстетика, как «совершенства всех душевных сил». Такое объединение всех интересов сознания уже казалось необходимым для эстетического творчества и эстетического чувства.
И всё же в этом требуемом и неизбежно требуемом согласии в развитии душевных сил кроется опасность, что за единством последних своеобразие и творческий характер эстетического сознания не достигнут полной ясности, что гений, скорее, останется мыслимым лишь как продукт, а не как творец особого содержания сознания. Этой опасности Мендельсон противопоставляет другое своё психологическое достижение, которым он обогатил основание эстетики: он вводит или изобретает «способность одобрения» как особую душевную способность.
В «Утренних часах, или Лекциях о бытии Божием», опубликованных в 1785 году, он поясняет в предисловии, что знает «труды Ламберта, Тетенса, Платнера и даже всесокрушающего Канта» лишь «по недостаточным сообщениям друзей или по учёным рецензиям, которые редко бывают очень поучительными», поскольку «так называемая нервная слабость» мешает ему больше читать, чем размышлять. А ближе к концу книги говорится: «Обычно принято делить способности души на способность познания и способность желания, причём ощущение удовольствия и неудовольствия уже относят к способности желания. Однако мне кажется, что между познанием и желанием лежит одобрение, согласие, удовольствие души, которое ещё весьма далеко от собственно влечения. Мы созерцаем красоту природы и искусства без малейшего побуждения к влечению, с радостью и удовольствием. Кажется, скорее, что отличительным признаком красоты является то, что её созерцают со спокойным удовольствием; что она нравится, даже если мы не владеем ею и очень далеки от желания ею воспользоваться… Но поскольку это обладание, как и отношение к нам, не всегда имеет место…, то и ощущение прекрасного не всегда связано с влечением и, следовательно, не может считаться проявлением способности желания. Если бы кто-то, в крайнем случае, назвал направление, которое удерживает внимание на удовольствии, побуждая далее рассматривать тот же предмет, способностью желания, то я, в сущности, не имел бы ничего против. Однако мне кажется более уместным обозначить это удовольствие и неудовольствие души, которые, хотя и являются зародышем влечения, но ещё не самим влечением, особым именем и отличать их от душевного волнения этого имени. В дальнейшем я буду называть это способностью одобрения, чтобы тем самым отделить её как от познания истины, так и от стремления к добру. Это, так сказать, переход от познания к желанию, и оно связывает эти две способности тончайшей градацией, которая становится заметной лишь на определённом расстоянии» [76].
Здесь, во-первых, обретены важные моменты для характеристики прекрасного, такие как «спокойное удовольствие», наслаждение без обладания, без использования и без влечения, разве что к более длительному созерцанию предмета. Но важнее выделение особой душевной способности для ощущения прекрасного, подобно тому как Мендельсон и ранее выделял «чувство» как таковое. Теперь самостоятельность эстетического сознания, казалось бы, проведена и обеспечена; ведь способность одобрения должна быть «отделена как от познания истины, так и от стремления к добру». Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что Мендельсону удалось лишь отличить способность одобрения как «формальное познание» от способности познания как «материального познания». И это различение также немаловажно в своих последствиях. «В сущности, всякое познание уже несёт в себе некий вид одобрения. Любое понятие, поскольку оно просто мыслимо, содержит нечто, что нравится душе, занимает её деятельность и, следовательно, познаётся ею с удовольствием и одобрением… Но если душа может найти в одном понятии больше удовольствия, более приятное занятие, чем в другом, то она может предпочесть его и выбрать. В этом сравнении и в этом предпочтении, которое мы отдаём одному предмету перед другим, заключается сущность прекрасного и безобразного, доброго и злого, совершенного и несовершенного. Это та сторона, где способность одобрения граничит со стремлением или желанием». Однако это уже не «граничение», а повторное слияние недостаточно чётко и осознанно различенного. Прекрасное отделяется от истинного, но не от доброго. Даже в характеристике прекрасного в противопоставлении истинному положительно проявляется действенность доброго, ведь даже сравнение приводит к предпочтению совершенного и, таким образом, возвращается к познанию.
Тождество с добрым, в котором он продолжает мыслить прекрасное, особенно отчётливо проявляется в конце рассуждения и всей книги: «Пока зависит от нас, должно ли что-то стать действительным, это решается нашим одобрением, нашим признанием за благо, и мы удерживаемся от зла, поскольку практически признаём его таковым. Как только зло свершилось и уже не может быть изменено, оно перестаёт быть предметом нашей способности одобрения и тогда возбуждает наше стремление к познанию… Пока мы ещё можем действовать, добро является предметом нашего желания, а наилучшее – предметом нашей практической воли… Одним словом: человек исследует истину, одобряет доброе и прекрасное, желает всего доброго и совершает наилучшее». Таким образом, прекрасное как предмет желания, возможно, ещё мыслится отличным от доброго как предмета воли, но сразу же затем присваивается одобрению как «доброе и прекрасное». Следовательно, Мендельсон не смог определить эстетическое как своеобразное отношение сознания в противоположность моральному, хотя и направлял своё внимание на то, чтобы отделить чувство как от познания, так и от воли. От познания ему это удалось, после того как в идеальной красоте было распознано общее genus и специфическое различие. Для морали подобная идеальность воли до сих пор нигде не была обнаружена. Чтобы открыть эту идеальность в воле, следовало сначала отвлечься от моральной воли, от воли к конечной цели или к счастью, и в методологическом и историческом натурализме помыслить самостоятельность воли. Даже идеальность рисунка была открыта в таком натурализме.
Этот методологический натурализм не был подтверждён сенсуалистами – ни Дюбо, ни Баттё, ни Бёрком, о котором Мендельсон говорит, что видно, «как осталась ему неизвестной психология немецких мыслителей» [77]. И в своей рецензии на Бёрка он говорит то, что и сегодня следует сказать англичанам, а прежде всего, конечно, нам: «Хотелось бы, чтобы англичане так же усердно изучали нашу философию, как мы пользуемся их наблюдениями» [78]. Французам он выразил это мнение резче [79], а в противопоставлении взглядам Дюбо особенно плодотворно применил теорию «смешанных ощущений» к теории драмы. Страсть – это ощущение, смешанное с удовольствием и неудовольствием, следовательно, она не поверхностна, не просто негативна, не только несовершенство, но, поскольку содержит одновременно удовольствие, является реальностью. Так это основное понятие лейбницевской метафизики и психологии получило популярное применение к эстетической проблеме драмы. Смешанные ощущения «глубоко проникают в душу и, кажется, дольше в ней сохраняются» [80]. Однако для разработки этого эстетического значения понятий реальности и совершенства действенный импульс пришёл и с другой метафизической стороны.
У Спинозы познание само является аффектом, но действием (actio), а не страданием (passio). Таким действием может быть и страсть как смешанное ощущение. Утверждения о страсти как реальности, которые содержит «Рапсодия», принадлежат, как доказал Данцель [81], изначально другу Моисея – Лессингу, которому это понимание, возможно, открылось или укрепилось в его спинозистских штудиях. Как деятельность, как реальность и силу души, родственную и равноправную познанию, рассматривает Лессинг эстетическое отношение сознания – эстетическое наслаждение и художественное творчество. Реальность – это реальность души, а не действительность вещей. Соответственно, понятие реальности становится идеалистическим рычагом эстетической теории.
Это идеалистическое значение реальности первоначально находит выражение в понятии иллюзии, которое Лессинг обсуждает в переписке с Мендельсоном. Кажется, что Мендельсон придал иллюзии характер своего рода сопротивляющейся силы против иначе единственно правомочных позитивных душевных сил: «Эстетическая иллюзия действительно способна на время заставить умолкнуть высшие душевные силы, как я довольно ясно показываю это в своих „Мыслях об иллюзии“»[82]. Лессинг отвечает, что он не удовлетворён этими мыслями. Для него иллюзия является позитивной формой эстетического поведения. Не вопреки иллюзии, но благодаря ей возникает эстетическое удовольствие. «Пример из мира телесного! Известно, что если дать двум струнам одинаковое натяжение и заставить одну звучать от прикосновения, другая будет звучать вместе с ней, не будучи затронутой. Дадим струнам чувство, и мы можем предположить, что каждая вибрация, но не каждое прикосновение будет им приятно, но лишь то прикосновение, которое вызывает в них определённую вибрацию»[83]. Таким образом, эстетическая иллюзия есть «второй аффект», подобно тому как вибрация есть распространение прикосновения. Подобно тому как эстетические аффекты «не должны направляться на определённый предмет», всё эстетическое воздействие обусловлено иллюзией, потому что внешняя реальность скорее мешает, чем необходима, потому что реальность есть совершенство души как таковой.
Другое следствие этого идеалистического мотива – определение, которое Лессинг даёт абстракции, обсуждая её в связи с лозунгом подражания природе. «Подражание природе… либо вовсе не должно быть принципом искусства, либо, если оно таковым останется, само по себе приведёт к тому, что искусство перестанет быть искусством… Слова „верное“ и „приукрашенное“, употребляемые в отношении подражания и природы как объекта подражания, подвержены многим недоразумениям… Я хочу набросать несколько мыслей, которые, если и не будут достаточно основательными, могут побудить к более основательным… В природе всё связано со всем; всё пересекается, всё меняется со всем, всё превращается в другое. Но при этой бесконечной многообразности она является лишь зрелищем для бесконечного духа. Чтобы конечные духи могли участвовать в наслаждении ею, они должны были получить способность налагать на неё границы, которых у неё нет, способность выделять и направлять своё внимание по своему усмотрению. Эту способность мы упражняем во все моменты жизни; без неё для нас не было бы жизни вовсе… мы бы пребывали в сновидении, не зная, что нам снится». Следовательно, строгого подражания вообще не существует, даже в познающем сознании; вместо этого нас направляет логика абстракции, которая даёт сознанию содержание, ощущения и мысли. Однако, как кажется, Лессинг полагает, что если подражания вообще нет, то для искусства даже абстракция не является необходимой. Таким образом, он, возможно, превзошёл Винкельмана, который сохранил выбор и для искусства. Лессинг же заключает: наука требует выделения; искусство свободно от него, поскольку благодаря собственному творчеству, а значит, действительному отделению от природы науки, оно способно и призвано создавать собственную природу.
После приведённых положений следует без переходов: «Определение искусства состоит в том, чтобы избавить нас в царстве прекрасного от этого выделения, облегчить фиксацию нашего внимания. Всё, что мы в природе мысленно выделяем или желаем выделить из предмета или связи различных предметов – будь то во времени или пространстве, – искусство действительно выделяет и даёт нам этот предмет или эту связь различных предметов столь чистыми и связными, насколько это вообще допускает ощущение, которое они должны возбуждать»[84]. Именно эта высшая, самостоятельная по отношению к природе абстракция искусства освобождает произведение художника от судьбы обычной логической абстракции. Эта высшая, творческая абстракция, порождающая реальность во всяком смысле, есть та ёмкая значимость, которую Лессинг соответственно придаёт «намерению» гения. «Действовать с намерением – это то, что возвышает человека над низшими существами; сочинять с намерением, подражать с намерением – это то, что отличает гения от малых художников»[85]. Это намерение самостоятельной абстракции, направленное на собственную, «чистую и связную» связь предметов, позволяет распознать согласие с Винкельманом, его влияние.
Исходя из этого значения абстракции, наконец, можно точнее понять основную мысль Лессинга о красоте как высшем законе изобразительного искусства. Следует предположить, что Лессинг не принял бы этот лозунг, не отдав себе в нём отчёта. В самом деле, уже в «Лаокооне» он превратил понятие идеала в переменное понятие красоты, дав таким образом мысли Винкельмана верное направление: идеал не есть родовое понятие прекрасного, но прекрасное разрешается в идеале – именно так, как он понимал идеал. Он, как известно, понимал его одновременно как видовое понятие отдельных искусств. Так понятие идеала стало подлинным принципом корректировки границ, которую он провёл между поэзией и изобразительным искусством. Из идеала как красоты телесных форм возник идеал для красоты действий. В такой самостоятельности поэзии, в таком освобождении от господствующего подчинения живописной красоте Лессинг постигал красоту как высший закон искусства, а не только как «первую и последнюю цель» художника[86].
Обращение к идеалу здесь, конечно, исчезло, так же как и там, где он допускает для поэзии два пути самостоятельного изображения «образования телесной красоты» – именно через впечатление воздействия и через превращение красоты покоя в красоту движения, которая называется прелестью[87]. Но в набросках ещё содержится винкельмановское выражение. «Поскольку тела являются подлинным предметом живописи, а живописная ценность тел состоит в их красоте: очевидно, что живописец не может выбирать свои тела слишком красивыми. Отсюда идеальная красота… Правда, и поэт стремится к идеальной красоте; но его идеальная красота не требует покоя, а как раз противоположного покою». К идеальной красоте живописи Мендельсон сделал примечание: «Этот шаг слишком смел. Красота форм, возможно, не составляет всей природной ценности тела, ибо, как кажется, к ней относится и волнение»[88]. Возможно, именно этой критике Мендельсона и принёс в жертву принципиальное выражение.