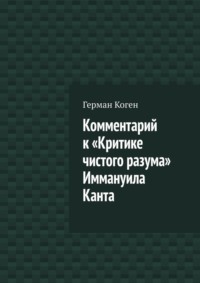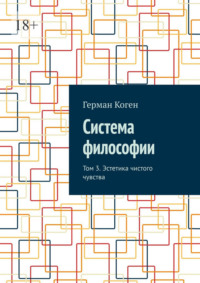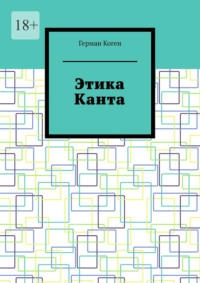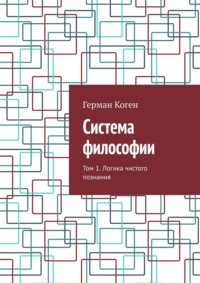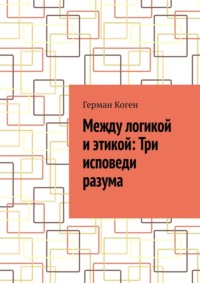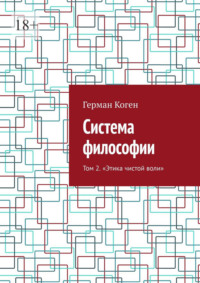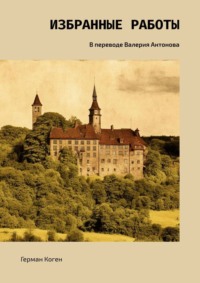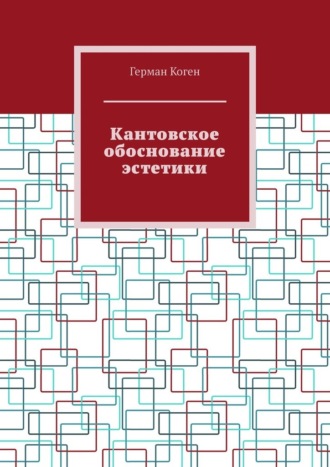
Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
Пока границы между верой и знанием не были точно разграничены, так что не приходилось улаживать пограничные споры, мысль о самостоятельной эстетике тоже не могла возникнуть. Даже Благо у Платона – идея, подобно Равному и Прямому: почему же Прекрасное как идея должно составлять особую область духа? Лишь идея Блага из-за своей предметной ценности могла породить мысль о методической самостоятельности и неоднородности с эстетическими идеями. Поэтому то типичное слово, что идея Блага лежит «по ту сторону бытия», следует понимать из тенденции primatus практического разума. Прекрасное же признано достаточным и надежно сохранено, поскольку оно отчасти подчиняется истине науки, отчасти – Благу. Что при таком приюте оно не обретает собственного дома, – античная систематика еще не задумывалась об этом. Лишь в новое время притязания поднялись так высоко из-за сомнений философской систематики.
Помимо колебаний, в которые попали границы веры и знания, также положение и расцвет самих искусств вызывали сомнения, достаточно ли воздается Прекрасному, когда оно подчиняется Истинному и Благому. Как бы ни могло языческое искусство с иронией украшать свой мир богов и свое богослужение, и как бы, с другой стороны, христианское искусство ни было связано с догмой и культом, все же последнее в своих великих проявлениях представляется куда более свободным, чем античное. Эта свобода становилась могущественнее, чем более она была противодействием. Между тем, уже в главной мысли христианства заложено родство с искусством, тенденция к искусству.
Идея воплощения Бога вызывает искусство.
Долгое время догматика спрашивает, не давая удовлетворительного ответа: cur Deus homo? Искусство дает однородный, внутренне принадлежащий, дополняющий догматическое суждение ответ. Изображая человека в идеализации, тогда как антика идеализирует богов, христианское искусство соединяется с христианской верой, с религиозной литературой в стремлении всемирной истории: уравновесить и снять противоположность трансцендентности и имманентности. То, что Гёте в связи с язычеством Винкельмана говорит о Зевсе Фидия: «бог стал человеком, чтобы возвысить человека до бога» – [11], то же самое Ириней говорит в обоснование христианства. [12] В свете христианства Гёте мог так думать о язычестве.
В самом язычестве лишь платонические силы, стремившиеся выйти за его пределы, требовали ὁμοίωσις τῷ ϑεῷ (уподобления богу). Пока боги мыслились так, как они действуют даже у целомудренного Гомера, до тех пор идеализация богов сама по себе ещё не могла означать идеализацию человека. Лишь страждущий бог, любящий, да и сам являющийся судиёй сын человеческий мог стать идеалом человека. Однако в оформлении, толковании и разработке этого идеала искусство желало идти своим путём, после того как научилось опираться перед лицом веры на знание – и не только на математическое и естественнонаучное, но в не меньшей степени и на современную мораль, и на классическое античное мировосприятие. В этом мнимом язычестве выросло искусство и пробудилась эстетика как самостоятельная проблема и как особая философия.
Это пробуждение и одушевление античности, хотя и обязано своим происхождением романским народам, но осуществление Ренессанса, благодаря которому при содействии новых сил могла возникнуть новая жизнь, новая эпоха, – это продолжение было предоставлено созвучности немецкого духа. Романские народы были склонны предпочитать римское, чему благоприятствовали и голландцы.[13] Во Франции опера и роман помогли духовным силам изгнать Гомера. И в споре о превосходстве древних, в котором к концу XVII века вопрос был решён, Перро, как показывает Юсти, выступал не в пользу предрассудка о прогрессе в творениях гения, а лишь обращал внимание на технику, на amas de préceptes, который можно улучшить, подобно тому как в естественных науках и механических искусствах от древних к новым можно заметить прогресс. Но Вольтер ставил Вергилия выше всех греческих поэтов, а Освобождённый Иерусалим Тассо – наравне с «Илиадой». Как он понимает Шекспира, так судит он и Аристофана; Платона он удостаивает снисхождения, потому что считает его чем-то вроде Ксенофонта. Если Вольтер мыслил так, то неудивительно, что Опиц в Немецкой поэтике 1624 года, как и за 150 лет до него Юлий Цезарь Скалигер в своей поэтике, считал римлян образцом.[14] Как искусство, так и теория искусства, не говоря уже о философии искусства, могла достичь зрелости лишь тогда, когда греческое искусство снова и по-новому стало понятным. Однако преимущество переходного периода можно заметить и в этом латинском Zopf-вкусе.
Юэ, как приводит Юсти, обозначил вкус того времени не только как «педантизм моды», но и как «педантизм школы». Последний же имел хорошее и, возможно, необходимое действие. Благодаря педантизму школы был передан тезис: что прекрасное подчинено правилам и законам и что эти законы необходимо исследовать. И здесь немецкому идеализму предшествует франко-английский сенсуализм. Последний работал здесь с двух точек зрения: с субъективной – поведения сознания по отношению к искусствам, и с объективной – моментов художественного произведения. Вторая привела к археологическому анализу и тем самым подготовила конструирование истории искусства. Первая же точка зрения была непосредственно направлена на теорию вкуса.
Можно, пожалуй, счесть примечательным, что англичане, в то время как они в других случаях противопоставляли французам no innate principles для науки и морали, для прекрасного, как искусства, так и природы, принимают и отстаивают некий вид самостоятельного поведения сознания, независимого от произвольных ассоциаций, хотя и мыслят его самое, в лучшем случае с помощью «побочных идей», исключительно на чувственной основе. Так, в защиту своего объяснения возвышенного Бёрк выступает против Локка в пользу непосредственного впечатления, производимого темнотой, не подпитываемого сказками о привидениях.[15] И подобным образом он утверждает против Дюбо, что поэзия, несмотря на темноту своих идей, действует на душу сильнее, чем живопись.[16] По Дюбо же, живопись действует через ясность своих идей.
Дюбо Сюльзером назван тем, кто «первым» попытался «построить искусство на общем принципе и показать из него правильность правил».[17] Но этот принцип – безусловно натуралистический. Исходя в своих Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719) из вопроса, в чём состоит удовольствие от искусства, он руководствуется парадоксом, что симптомы этого удовольствия иногда те же, что и величайшей боли, и потому находит происхождение удовольствия в мысли: душа имеет свои потребности, как и тело. Душевные движения, доставляемые искусством, хотя и «поверхностны» по сравнению с естественными, как театральные – по сравнению с казнями и гладиаторскими играми. Но душа нуждается в émotions: pour fuir l’ennui (в волнениях: чтобы избежать скуки). Этот натурализм груб; но он, кажется, оказал хорошее влияние; ибо рядом и поверх искомых правил он указывал на природу и на чувство; на воображение и на гений. И потому эта теория, соединявшая психологический натурализм с художественными правилами, стала значимой для швейцарцев, которые передавали франко-английские импульсы в Германию.
Признавая за швейцарцами заслуги в пробуждении эстетических основополагающих сил – чувства и воображения – для нашей ориентации, следует учитывать, что, хотя они и подготовили почву для немецкой эстетики, они в не меньшей степени уже находились под влиянием немецкой философии. Под влиянием её систем находились и французы, и англичане – как критики прекрасного, так и поэты и художники, – под влиянием Декарта[18], Гассенди и Локка. Швейцарцы позволяют яснее распознать такое влияние систем, потому что не останавливаются на одной, а переходят от Декарта через Вольфа к Лейбницу. Данцель показал[19], как швейцарцы боролись с Готшедом не в том, что вообще отрицали правила, а лишь в том, что наряду с правилами и поверх них утверждали «чудесное» гения. Это чудесное творчески заключено в воображении, а восприимчиво – в ощущении и чувстве.
Эти чувственные силы эстетического сознания были уже признаны Дюбо, как их и Декарт ввел в свою теорию познания в рамках воображения, наделив их двойственным значением. И на Дюбо ссылаются, не называя его по имени, «Рассуждения о живописи» [20]. Связь поэзии и живописи также заимствована у Дюбо, но у Бодмера, побывавшего в Италии, она становится более плодотворной для теории. Ибо хотя весьма важно, что Дюбо высказал мысль о приоритете природы над искусством, лишь благодаря разъяснениям Бодмера эта идея обрела ясность и эпохальное значение. Эта эпоха начинается с импульса, данного Декартом, но лишь благодаря определению Лейбницем средств познания она была окончательно утверждена.
Вопрос об основных отношениях прекрасного есть не что иное, как фундаментальный философский вопрос о соотношении чувственности и мышления. Для швейцарцев первостепенной задачей стало признание значимости чувственности.
«Объект, который таким образом представлен в воображении пером и словами, называется идеей, по-немецки – изображением, картиной».
Так Бодмер в «Рассуждениях» вкладывает в уста живописца Рубенса. Ибо только так он может воздействовать на душу. И именно поэтому Брейтингер говорит:
«Я называю поэзию поэтической живописью, ибо это яркое, трогающее сердце изображение и есть подлинная сущность поэзии».
Это оживление чувственности в пользу пластической поэзии они приписывают «картезианскому стилю», в котором они рассуждают в «Рассуждениях» (1721), хотя в действительности это стиль Локка [21]. Уже в 1727 году они посвящают свой труд «О влиянии и употреблении воображения для усовершенствования вкуса» Вольфу, из философии которого, как они утверждают, выводят свои принципы. В «Переписке о природе поэтического вкуса» (1736) они окончательно совершают систематический, осознанный по своей направленности и последовательности переход от Декарта к Лейбницу.
«Но великий немецкий философ, господин Лейбниц, изобретением своей системы предустановленной гармонии нанес чувственности смертельный удар: он лишил ее судейской должности, которой она так долго злоупотребляла, и сделал ее лишь вспомогательной или случайной причиной (causa ministrante или occasionali) суждения души» [22].
Из этого следует, что «механическая система картезианской философии» тем самым должна быть опровергнута: не чувство, не механическое воздействие на душевный орган порождает ощущение прекрасного, а суждение души. Подобно суждению, они противопоставляют чувству и «размышление». Таким образом, они признают духовное в искусстве, не подчиняя его технике правил. Это психологическое прозрение о взаимодействии сил сознания приводит их, наконец, к определению соотношения природы и искусства, которое Данцель называет «изумительно исчерпывающим».
Оно содержится в предисловии Бодмера к «Критической поэтике» Брейтингера (1740) и демонстрирует не только зрелое понимание принципов Лейбница, но и осознание немецкого происхождения этих идей:
«Хотя несомненно, что природа предшествовала искусству… я также признаю, что сочинения Гомера, Софокла и Демосфена были написаны без помощи учебников искусства… однако это не означает, что упомянутые сочинения были созданы без правил; иначе в них не было бы ни искусства, ни, следовательно, природы, ибо правила суть не что иное, как извлечения и наблюдения искусства и природы… Эти великие поэты и ораторы были, напротив, первыми, кто нашел искусство в природе, ибо они сами внесли его в нее… Поскольку же искусство и правила присутствуют в их сочинениях, давайте исследуем, откуда они их почерпнули… Опыты без исследования, по замечанию одного искусного наставника, во многих отношениях обманчивы… Напротив, всеобщая причина того, что приятно в представлениях, – та, что основана на их соответствии нашему душевному складу, – есть принцип столь же неизменный, как сама природа нашего ума».
Этот принцип «соответствия нашему душевному складу» есть принцип философии. И во все времена философия способствовала подлинной критике, а с ней – и подлинному искусству.
«Опыт показывает, что чистый вкус становился всеобщим лишь у тех наций, которые благодаря занятиям философией были подготовлены к критическим исследованиям… Принцип, согласно которому суждение вкуса основывается на чувстве, подобно фанатическому учению о внутреннем свете, преграждает путь исследованию и ведет к слепой вере и безрассудному повиновению… На этом основании я некоторое время назад позволил себе надеяться, что хороший вкус скоро утвердится в Германии, ибо ожидаю этого как неизбежного плода всеобщего распространения философии Лейбница, тем более что умы немцев благодаря ей превосходно подготовлены к его усовершенствованию».
Так судит Бодмер о связи немецкой философии и немецкой художественной критики; так судит он о связи всякой художественной критики с философией. Так судит он, наконец, об эстетической силе и значении системы Лейбница в отличие от системы Декарта и учений «безрассудного механизма», полагающего суждение о прекрасном исключительно в чувство.
Заслуга швейцарцев определяется этим точнее и значительнее. Они не только указывают назад, на подлинный источник, но и распознают и показывают силу, из которой в будущем должно произойти великое. С лучшим, что могла дать Англия, – с Мильтоном и Шекспиром – они не только освобождаются от влияния Франции, но и связывают надежды на новое искусство с немецкой философией.
«Соответствие нашему душевному складу» есть «всеобщая причина» прекрасного. Этот «принцип» «столь же неизменен, как сама природа нашего ума». Здесь ясно схвачена и блестяще применена главная мысль лейбницевского рационализма – идея intellectus ipse, с которой Лейбниц противопоставляет полуистине сенсуализма (nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu). Это та идея, в которой расходятся два классика рационализма – Декарт и Лейбниц.
Глубокий Декарт не нашел этого выражения. Поэтому его психология, несмотря на априоризм его так называемых (вернее, означающих нечто более глубокое) врожденных идей, имела преимущественно механистические последствия, хотя среди них были и ценные физиологические достижения. Лейбниц же, психолог по направлению во всех своих трудах (в математических – не говоря уже об исторических), пробуждает тем самым и рациональную психологию в лучшем смысле слова – в противоположность поверхностно-механистическому, против механизма фразы образования, но не против научного механизма физиологии.
Механизм, как показывает пример Декарта, может стать даже точкой зрения на свободу воли. И подобно трагедии Корнеля, лейбнианец Лессинг в целом опровергает механистические воззрения в художественной теории французских картезианцев.
Если вкратце попытаться подвести итог заслугам Лейбница в подготовке систематической эстетики, то, пожалуй, можно сказать, что не только достоинства, но и слабости лейбницевской системы оказались благоприятными для эстетики.
Совершая поразительно многое – действуя, творя, изобретая и осуществляя, – Лейбниц тем не менее провозгласил создание системы своей главной целью и тем самым внушил немецкой нации подлинно философский импульс – стремление к системе мировоззрения. Лишь в такой системе всякое отдельное достижение имеет для немца ценность.
Прекрасное также может утвердить самостоятельную ценность, которой обладает, лишь в согласовании и примирении с истинным и добрым; но в силу этого оно может и возвыситься. Силы сознания, сталкивающиеся в отдельных областях, обретают свою гармонию в целостности культуры.
Таким образом, в критике познавательных способностей Лейбница чувственность оказалась обойденной; однако для эстетики это логическое умаление оказалось непосредственно благотворным. Одухотворение чувственного вплоть до интеллектуализации созерцания со времен Платона было рычагом идеализма, а также центром тяжести всякого художественного вдохновения. Чувственное должно зависеть от мышления, иначе искусство не может считаться чем-то духовным, деятельностью, представляющей высшую ценность человека, стремлением, удовлетворяющим его высшие побуждения. И тем не менее чувственность должна была быть выделена и закреплена как низшая ступень в иерархии сознательных способностей: чтобы самостоятельность и своеобразие искусства, поскольку оно проистекает из чувственности, могли быть осознаны и превращены в проблему. Чувственность рассматривалась не так, как у сенсуалистов, в качестве единственного источника и основания всякого познания, но оставалась таковой лишь для определенного рода познания, для определенной деятельности сознания. Таким образом, взгляд, что чувственность, хотя и ниже разума, все же представляет нечто своеобразное, мог способствовать становлению эстетики как самостоятельной дисциплины. Дух имеет теперь не один лишь источник, а значит, вероятно, и не одну только область, не одно лишь интересующее его: прекрасное становится рядом с истинным, предъявляя собственные требования.
Более подробная характеристика чувственности как смутной предварительной ступени мышления также не ослабляла этого эффекта, а, напротив, усиливала его. Ибо, сколь бы ни необходимо было утверждать самостоятельность искусства, связь с познанием все же не должна быть полностью разорвана. Вкус должен рассматриваться как вид познания, если вообще возможно познание его законов. Обозначая чувственность как смутное познание, фантазия все же оставалась включенной в сферу познающего сознания, отличаясь лишь от сознания научного.
Обсуждение отношения отдельных дисциплин философии к науке также способствовало усилению эстетического интереса. Логика была определена как источник математики и естествознания, логика как учение о мышлении. Чувственность, рассматриваемая логически, по отношению к науке была смутной предварительной ступенью. Но рядом с науками искусства вновь пробудились к мощной жизни. Следовательно, они требовали наряду с науками своего философского признания. Изящные искусства стали темой самых общих и оживленных дискуссий, как психологических, так и технических. Поэтому была предпринята попытка классифицировать и эти, аналогичные наукам, продукты духа по шаблону системы, объединить их проблемы под именем дисциплины, по крайней мере, подвергнуть их психологической характеристике, насколько это допускала систематическая схема: найти для ощущения и воображения, которые казались столь близкими созерцанию и суждению, analogon rationis. А поскольку логика была уже занята как учение о разуме, то эта новая, аналогичная разуму способность должна была быть определена как учение о чувственном познании, то есть все же о познании. Таким образом, могло случиться, что в той самой философии, которая принижала чувственность, со стороны самого познания возник импульс к эстетике как науке.
Но и со стороны морали Лейбниц мог привести к эстетике. Как в его метафизике, в его учении о монадах, так и особенно для морали понятие совершенства было им положено в основу. В двусмысленном понятии совершенства как мере того, что «увеличивает нашу мощь», сходятся Спиноза и Лейбниц. Лейбниц в одной из своих записей присваивает себе это определение. Стремление к совершенству становится моральным принципом, а значит, и принципом осуществления познания. Логика есть учение о совершенстве мышления. Если же допускается – как бы ни оценивалось – чувственное познание, то и для него должно быть потребовано соответствующее совершенство. Соответственно, Бюльфингер указывал на «логику воображения». У Вольфа совершенство называлось схоластической bonitas transcendentalis. Он определяет perfectio как consensus in varietate, seu plurium in se invicem differentium in uno. Consensum vero appello tendentiam ad idem aliquod obtinendum[23]. Таким образом, совершенство есть стремление многообразного к единству. Это эстетическое шибболет того времени: единство в многообразии. И эта мысль есть не что иное, как основная идея предустановленной гармонии: expressio multorum in uno.
Такое выражение многого в одном есть представление вообще. Следовательно, это стремление должно быть присуще и тому представлению, которое, не претендуя на научность, все же является видом познания и столь настойчиво говорит в пользу морали, что, казалось бы, уже могло стремиться к совершенству по ее поручению, – если бы оно скорее в собственном побуждении и собственными средствами не усиливало мощь и сущность человека.
Поэтому Лейбниц в написанном по-немецки сочинении «О мудрости» определяет сущность вкуса следующим образом: «Обычно говорят: есть нечто, je ne sais quoi, что мне в вещи нравится, это называют симпатией; но те, кто исследуют причины вещей, находят основание и понимают, что в ней есть нечто, что, хотя и незаметно для нас, все же истинно нам способствует. Музыка дает прекрасный пример этому… Всякий порядок способствует душе… Совершенством я называю всякое возвышение сущности… Таким образом, совершенство проявляется в силе действовать… Далее, при всякой силе, чем больше она, тем более проявляется многое из одного и в одном, поскольку одно управляет многим вне себя и предобразует его в себе. Теперь, единство во множестве есть не что иное, как согласие, и поскольку одно ближе согласуется с этим, чем с тем, отсюда проистекает порядок, от которого происходит вся красота, а красота пробуждает любовь. Когда же душа ощущает в себе великую согласованность, порядок, свободу, силу или совершенство, это вызывает радость. Но если удовольствие и радость так опьяняют, что, хотя и услаждают чувства, но не удовлетворяют разум, то они легко могут способствовать несчастью… И потому чувственную voluptas надлежит употреблять по правилам разума…»[24]. Если эти глубокие определения первоначально высказывались лишь в теоретическом и моральном энтузиазме и как наставление для князей и «высоких особ», то эстетическое чувство все же прорывается безудержно. «Красота природы так велика, и наблюдение ее имеет такую сладость…, что тот, кто вкусил ее, все другие утехи считает ничтожными в сравнении с нею». Таким образом, объективный признак красоты мыслится здесь совершенно субъективно – как то совершенство, которое душа ощущает «в себе самой».
Этот язык свидетельствует о высшем развитии Лейбница; по мнению Гурауэра, «поэтому его следует отнести к последнему десятилетию XVII века». Однако замечание о Шефтсбери, на которого ссылаются швейцарцы, также ценно и, в сущности, плодотворно: «Le Goût distingué de l'Entendement consiste dans les perceptions confuses, dont on ne saurait assez rendre raison. C’est quelque chose d'approchant de l'instinct: et pour l’avoir bon, il faut s’exercer à goûter les bonnes choses que la raison et l’expérience ont déjà autorisées»[25]. И здесь вкус отделен от рассудка, коренится в смутных представлениях, недоступен основаниям, которые там становятся доступны тем, «кто исследует причины вещей». Кроме того, инстинкт есть душевная способность, связующая познание и мораль. И вкус приближается к нему.
Между тем эти отнюдь не исчерпывающие указания следует дополнить еще одной цитатой, которая точно опосредует переход к собственно обоснованию эстетики. В первом наброске к основанию академии говорится: «Вся красота состоит в гармонии или пропорции, причем красота душ или существ, обладающих разумом, заключается в пропорции между разумом и мощью»[26]. Мощь, как сказано выше, есть «сила действовать», «в которой проявляется совершенство», следовательно, чисто психологический фактор. Правда, мысль о пропорции была унаследована от античности, художники Возрождения вновь подтвердили ее; Бэкон осмеливается подвергнуть сомнению измерения Дюрера. Однако эпохальное значение Лейбница заключается в том, что он признает пропорцию не только в математических формах и отношениях, но ищет ее в «душах или существах, обладающих разумом», то есть субъективизирует ее, причем мыслит как пропорцию между силами сознания, «между разумом и мощью».
При столь значительных и определенных импульсах и указаниях, данных Лейбницем для эстетики, менее важно то, что он сам был восприимчив к прелестям искусства, пусть, возможно, в основном лишь поэзии, которой он даже посвятил собственные опыты. «Немецкая поэзия относится главным образом к блеску языка». Так говорится ближе к концу «Непредвзятых мыслей, касающихся употребления и улучшения немецкого языка». Так он хвалит «дорогого Лютера» и духовную песнь. Он также оставил важную заметку о нравственной силе музыки и изобразительных искусств[27].
Предпочтительно, однако, эстетическая проблема ожила в поэзии, с которой, в крайнем случае, сравнивали живопись и, таким образом, учитывали её тоже. Музыка хотя и упоминается, но не оценивается по её теоретическому значению для эстетических законов, хотя именно она обладала наиболее прочной теорией; равно как и архитектура, теоретическое возрождение которой у Леона Баттисты Альберти даже соединяется с платонизмом.[28] Даже скульптура не выдвигалась на первый план. Таким образом, объясняется, что понятие искусства не могло быть постигнуто по своему объёму, а по своему содержанию – определено.