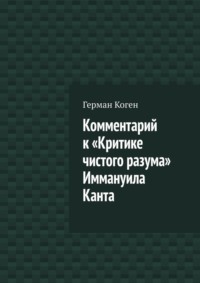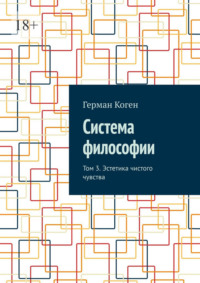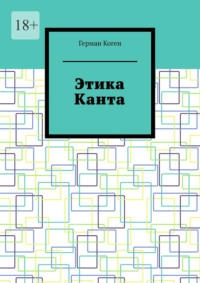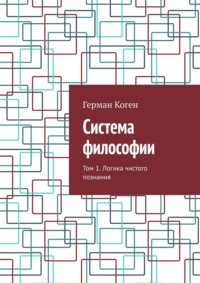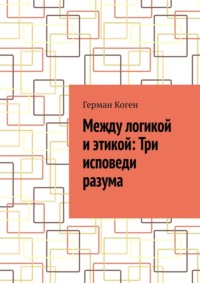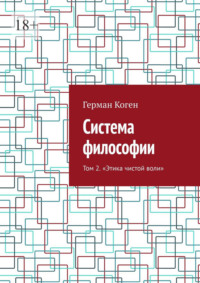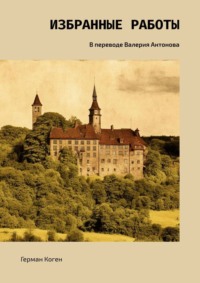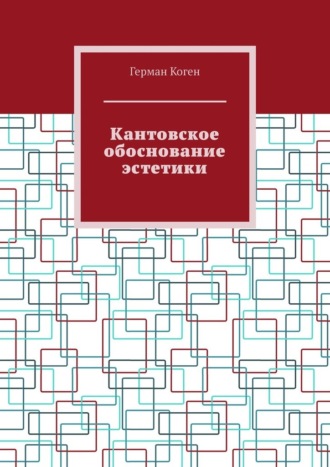
Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
Центральным вопросом, который Кант поставил в своей эстетике, является вопрос о том, что отличает художественное творчество от науки и нравственности. Коген подчёркивает, что эстетика как дисциплина могла возникнуть только в условиях, когда другие направления духа – наука и мораль – достигли методической оформленности. При этом эстетика стала преимущественно немецким достижением, несмотря на то, что другие народы, такие как французы и англичане, также проявляли интерес к искусству и даже превосходили немцев в психологических описаниях и логической чёткости. Однако немецкая эстетика, по мнению Гёте, Шиллера и Гумбольдта, представляла собой нечто иное, чем эстетика французская, что отражало различия в национальном духе и философской традиции.
Причина, по которой только немцы смогли создать эстетику, заключается, как утверждает Коген, в их способности выделить особенное в художественном творчестве. В то время как англичане склонны отождествлять прекрасное с добрым, а французы выводят искусство из природы и действительности, немцы, начиная с Канта, стремились отделить искусство от этих сфер, утверждая его автономию. Эта тенденция к различению областей культуры характерна не только для эстетики, но и для религии (протестантизм) и морали, где также важно было определить специфику каждой сферы.
Коген противопоставляет классический подход, основанный на чётком разграничении областей культуры, романтическому, который стремится к их смешению. Романтизм, по его мнению, склонен к «католизации» культуры, когда все ценности выводятся из единого источника – будь то история, миф или опыт. Это приводит к тому, что искусство, наука и мораль теряют свою самостоятельность, растворяясь в некоем синкретическом единстве. Романтическая эстетика, провозглашая гегемонию искусства, на самом деле затемняет его специфику, подчиняя его историческим или мифологическим схемам.
Классическая же эстетика, напротив, основана на систематике, которая признаёт равноправие искусства с другими формами духа. Система, по мнению автора, не просто соединяет различные области культуры, но демонстрирует их как продукты различных направлений сознания. Именно поэтому эстетика возможна только в систематической философии, и именно поэтому её создание оказалось под силу только немцам, завершившим систему в кантовских «трёх критиках».
Ключевым признаком классической эстетики является использование точных понятий, заимствованных из наук о природе и нравственности. В отличие от романтической эстетики, которая оперирует спекулятивными понятиями тождества, критическая эстетика Канта основывается на строгих методологических принципах. Например, понятие формы у Канта – это не просто внешняя организация материала, а закон порождения содержания, что сближает эстетику с математикой и естествознанием.
Однако критическая эстетика сталкивается с трудностями, особенно в вопросе о субъективности эстетического чувства. Шиллер, например, пытался найти объективный принцип прекрасного, но в итоге признал, что его теория остаётся субъективной, хотя и не в меньшей степени, чем кантовская. Фишер критиковал Канта за формализм, но сам не смог предложить убедительной альтернативы.
Романтическая эстетика, представленная Шеллингом и Гегелем, стремилась преодолеть субъективизм Канта через понятие Абсолюта, в котором искусство и природа тождественны. Однако, как показывает Коген, это приводит к мифологизации искусства и утрате методологической строгости. Шеллинг, например, рассматривал универсум как произведение искусства, а идеи – как богов, что, по мнению автора, лишало эстетику философской глубины. Гегель, хотя и пытался отделить искусство от природы через понятие идеала, также не смог избежать спекулятивных крайностей.
Четвертая глава, посвященная критической эстетике и её месту в неокантианстве и современной философии, представляет собой глубокий анализ гегелевской концепции идеала, его интерпретации у Шиллера, Гумбольдта, Гёте и других мыслителей, а также методологических проблем, связанных с эстетической формой и содержанием. В центре внимания – вопрос о том, как искусство, будучи «серединой» между бытием и представлением, создаёт новую реальность, превосходящую как природную, так и нравственную данность.
Гегель определяет идеал как сведение внешнего существования к духовному, где явление становится раскрытием духа, но не абстрактной всеобщности, а живой индивидуальности. Идеал – это действительность, очищенная от случайностей, где внутреннее проявляется как одухотворённая форма. Однако, несмотря на красоту этих формулировок, автор отмечает их недостаточную методологическую проработанность. Гегель, отрицая идеал в природной красоте, сводит идеализацию природы к научной истине, а не к художественному преображению, что ограничивает его эстетику. Искусство у него оказывается лишь подготовительной ступенью к логике, а не самостоятельной сферой, где форма и содержание сливаются в новое целое.
Шиллер, напротив, глубже других усвоил кантовский метод, особенно в различении материала и формы. Для него идеал – не просто облагораживание материала, а придание ему внутренней необходимости, закономерности. Форма у Шиллера – это не контур или абстракция, а созидающий закон, который организует материал (будь то природный или нравственный) в новое содержание. Эстетическое превосходит и природную закономерность, и моральный долг, не отменяя их, но возвышаясь над ними в свободной игре чувства.
Гумбольдт развивает эту линию, подчёркивая, что идеал – это не просто возвышенная реальность, а создание воображением новой тотальности, где форма и материал не противопоставлены, а синтезированы. Колорит, например, не просто украшает форму, а становится её органичной частью, подчиняясь общему закону художественного целого. Гёте, в свою очередь, настаивает на том, что художник не подражает природе, а творит «вторую природу» – осмысленную и человечески совершенную. Цвет у него – не просто физическое явление, а элемент гармонии, подчинённый художественному закону.
Критический анализ выявляет ключевую проблему: традиционные определения идеала часто смешивают художественную форму с природной или нравственной, тогда как эстетическое содержание – это нечто новое, возникающее из переплавки обоих материалов в чувстве. Форма в искусстве – не отражение внешнего порядка, а закон самого чувства, его внутренняя целесообразность. Эстетическое сознание не направлено на предметы, как теоретическое или практическое, а погружено в игру чувства, где материал (природный или моральный) растворяется и заново кристаллизуется в самостоятельную форму.
Таким образом, эстетика, освобождённая от натурализма и морализма, предстаёт как учение о специфической закономерности чувства, где форма – не внешний контур, а внутренний закон содержания. Этот подход, идущий от Канта через Шиллера к неокантианству, открывает путь к пониманию искусства как автономной сферы, где истина и добро не отрицаются, но преодолеваются в новой, свободной игре сознания. Современная философия, развивая эти идеи, должна уточнить методологию эстетической формы, чтобы избежать как редукции искусства к природе или морали, так и его абсолютизации в отрыве от материала.
Эстетическое отношение сознания, будучи ориентированным преимущественно на субъективность, может быть описано как пропорция – термин, использовавшийся ещё Лейбницем для характеристики эстетического восприятия. Закономерность эстетического сознания заключается в целесообразности пропорции, выражаемой чувством. В этой чувственной пропорции содержания других форм сознания выступают как элементы, необходимые для формирования эстетической формы, но сами по себе они остаются лишь материалом, подлежащим обработке. Эстетическая форма, хотя и требует конкретного оформления, по сути является содержанием лишь в том смысле, что она не растворяется в чувстве, а удерживается в нём, обретая устойчивость и стремясь к границам. Однако эти границы никогда не достигаются окончательно: эстетический предмет, несмотря на кажущуюся чёткость контура, остаётся бесконечным, что противоречит самому понятию предмета как конечного и ограниченного. Таким образом, эстетический предмет определяется не объёмом, а содержанием своего понятия, чьи отношения бесконечны.
Эстетическое сознание конституируется пропорцией, то есть отношением между различными видами сознания, но не для создания предмета, а для порождения нового вида сознания – чувства как равнодействующей этих взаимодействий. Этот новый вид сознания направлен не на объект, а на само чувство как форму, возникающую в процессе взаимоотношений других видов сознания. Именно поэтому Кант называл эстетическое сознание "игрой сил сознания". В этой игре участвуют не только рассудок и воображение, но и моральное сознание, включая его основу – сознание движения. Эстетическая пропорция затрагивает не отдельные содержания, а сами действия сознания, производя не конкретные объекты, а новое состояние сознания – направление чувства.
Может показаться, что чувство лишает эстетическое сознание объективности, а игра – закономерности. Однако именно эта игра впервые наполняет понятие человечества смыслом, связывая свободу воображения с закономерностью рассудка. Без неё человек как чувственное существо не обрёл бы свободы, а его познание оставалось бы сухим и формальным. Эстетическая игра делает возможной всеобщую сообщаемость, которая является основой не только эстетического, но и теоретического сознания. Если бы пропорция между различными видами сознания не устанавливалась, взаимопонимание стало бы невозможным. Таким образом, эстетическая игра, несмотря на свою кажущуюся лёгкость, обладает глубокой серьёзностью, поскольку её ставка – всё содержание сознания, а выигрыш – само сознание в его целостности.
Шиллер, развивая кантовскую идею, сделал "игровой инстинкт" центром эстетики, понимая его как посредника между материальным и формальным инстинктами. Игра для Шиллера – не легкомыслие, а расширение человеческой природы, условие подлинной свободы. Красота, возникающая из игры, есть "совершенство человечества", а эстетическое состояние – дар, позволяющий человеку "делать из себя то, что он хочет". Шиллер подчёркивает, что эстетическая культура не отменяет моральный закон, но создаёт условия для его свободного принятия, облагораживая чувственность.
В отличие от Шиллера, Гербарт сводит эстетику к учению об искусстве, смешивая её с моралью и наукой. Он рассматривает эстетические суждения как непосредственные и непроизвольные, но упускает их специфику, сводя прекрасное к объективным отношениям (например, контрапункту в музыке). Его подход, лишённый глубины кантовской и шиллеровской психологии, оказывается поверхностным, поскольку игнорирует волю как материал эстетического сознания и не понимает чувство как результат игры сил сознания.
Шопенгауэр, в свою очередь, видит в искусстве путь к постижению воли как вещи в себе. Искусство освобождает от индивидуации, позволяя познавать идеи – объективации воли. Однако его концепция содержит противоречие: с одной стороны, искусство должно выражать волю, с другой – требовать освобождения от неё. Это приводит к отрицанию драмы (как выражения воли) и абсолютизации музыки (как непосредственного воплощения воли). Критический подход, однако, показывает, что эстетическое сознание не устраняет волю, а включает её в игру, порождая чувство как новую форму сознания.
Интеллигибельный субстрат эстетики – это идея согласования природы и нравственности в прекрасном, что сближает искусство с религией. Обе стремятся к примирению конечного и бесконечного, но если религия ищет трансцендентного Бога, то искусство гуманизирует божественное, утверждая ценность индивида. Судьба в искусстве – не провидение, а сила, возвышающая человека даже в его поражении.
Зольгер, развивая романтическую эстетику, углубляет эту идею через концепцию иронии искусства, которая раскрывает диалектику конечного и бесконечного в творческом процессе. Таким образом, критическая эстетика, отталкиваясь от Канта и Шиллера, через полемику с Гербартом и метафизику Шопенгауэра, приходит к пониманию искусства как высшей формы сознания, синтезирующей чувство, волю и разум в свободной игре, которая утверждает человеческое в его универсальности и индивидуальности.
Четвертая глава, посвященная критической эстетике и её месту в неокантианстве и современной философии, раскрывает глубокую взаимосвязь между религиозным и художественным сознанием через призму иронии как ключевого концепта. Ирония здесь выступает не просто как литературный приём или скептическая позиция, но как фундаментальный способ соединения двух миров – божественного и человеческого, вечного и преходящего. В этом синтезе религия, погружаясь в размышления о тщете земного, очищается и укрепляется, обретая благоговение перед вечным, тогда как искусство, избегая крайностей мистического отречения или мирского разложения, удерживает оба полюса – человеческое и божественное – в гармоничном напряжении.
Зольгер, чья концепция иронии становится центральной для этой главы, видит в ней не просто меланхолическое осознание гибели прекрасного, но трагическую основу самого искусства. Ирония – это момент, когда идея, воплощаясь в конечном, неизбежно разрушается, и именно в этом разрушении раскрывается её единство с вечным. Таким образом, искусство преодолевает ограниченность религии, которая либо принижает человеческое перед лицом божественного, либо растворяет божественное в мирском. Вместо этого искусство, сохраняя беспристрастность, демонстрирует "нужду самой идеи" – её вынужденность являться в конечном, что и составляет суть эстетической иронии.
Однако, как отмечается, эта романтическая традиция, несмотря на свою глубину, не даёт окончательного обоснования искусства в его специфике, поскольку слишком тесно связывает его с религиозными и метафизическими категориями. В противовес этому Фриз и другие мыслители пытаются вывести эстетику из общего источника духа, где религиозное и художественное чувство проистекают из одного корня – "предчувствия вечных идей". Но и здесь возникает проблема: религия, будучи смешанным интересом разума, не может полностью совпадать с эстетикой, поскольку последняя обладает собственным интеллигибельным субстратом – чувством как самостоятельной задачей сознания.
Ключевым для эстетики оказывается понятие "интеллигибельного субстрата прекрасного", который не сводится ни к объекту искусства, ни к его психологическому восприятию, а представляет собой бесконечную задачу гармонизации чувства человечества. Это не просто идеал гуманности, проповедуемый этикой, но именно эстетическое единство, в котором национальные особенности не нивелируются, а, напротив, обретают свою высшую ценность в общечеловеческом контексте. Немецкая философия и искусство – от Канта и Шиллера до Гёте и Бетховена – сыграли особую роль в осознании этой задачи. Немцы, будучи "народом всемирной литературы" и создателями музыки, которая стала языком общечеловеческого чувства, наиболее полно воплотили идею эстетического человечества.
Критическая эстетика, как её представляет данная глава, выходит за рамки чисто художественной проблематики, становясь философским проектом, который ставит перед человечеством задачу гармонизации чувства через искусство. Это не случайность, что именно в немецкой традиции, с её вниманием к трансцендентальным основаниям сознания, эстетика обрела своё систематическое обоснование. В этом смысле эстетика оказывается не просто разделом философии, но ключом к пониманию того, как человечество может преодолеть разрывы между конечным и бесконечным, национальным и универсальным, разумом и чувством.
Предисловие
Двадцать лет назад я начал свои «Кантовские исследования», третью часть которых представляет эта книга. План её сложился у меня лишь тогда, когда стало яснее, что эстетическая проблема роковым образом связана с систематической проблемой философии: так что философ-систематик оказывается ответственным за состояние эстетики.
Как целые эпохи бывали испорчены искусством, так и эстетика может ввести в заблуждение всю философию. И подобно тому, как успешные направления в искусстве часто оказывались порочными не потому, что из-за недостатка таланта в них не достигалась цель прекрасного, а потому, что они вообще не признавали единственную цель всякого искусства своей целью, не видели в ней тот мир прекрасного, к которому они стремились, – так и никакая эстетика не может быть правильной, если в ней не приведена в порядок систематическая истина. Если пантеизм не содержит решения философских загадок, то пантеистическая эстетика должна быть столь же ложной, сколь и вредной для совокупности философских проблем.
Эстетика, таким образом, находится в особенно ненадёжном положении. Уже с личной точки зрения защита эстетических интересов – дело более требовательное, чем даже в случае этики. Ибо педантичному мудрецу охотно допустят, что он знает не только, что истинно, но и что хорошо; но чтобы он ещё и хотел постичь то, что происходит под ответственностью божественного безумия, и чтобы он мог обращать людей и наставлять их, опираясь на их удовольствие от произведений художников, – это кажется самым сомнительным из всех философских притязаний и мнимых задач.
Здесь мне особенно пригодилась роль защитника, которую я взял на себя. Когда я впервые заявил, что Канта до сих пор не поняли, я мог удостовериться в этой исторической истине лишь относительно основных понятий у выдающихся последователей, а также у самых известных тогдашних современников. Общий исторический ход наук сам по себе говорил достаточно ясно в пользу заново обоснованного кантовского метода; но авторитетные голоса можно было призвать лишь по отдельным вопросам. Теперь же и здесь мы, читатель и автор, находимся в свободной, спокойной ситуации, лишённой всяких личных сомнений.
Спор об эстетике Канта – это вопрос истории немецкого духа. Если эстетика Канта ложна или, выражаясь удобной двусмысленностью философской историографии, «вдохновляюща и эпохальна», то Шиллер и Гёте, Гумбольдт и другие вожди антиковедения размышляли над фантомами, и от нашей классической эпохи останется лишь несколько прекрасных стихотворений. Но дух, который потряс это великое время, породил самостоятельную немецкую сущность и пробудил вечную весну в истории человечества, – этот дух немецкой классичности был бы тогда отвергнут.
Всякая попытка оценить это отечественное достояние, осветить его с точки зрения прошедших ста лет и, наконец, оживить смелостью собственных изысканий – такая попытка, следовательно, всегда вправе надеяться на участие тех, кто, выходя за пределы учёной суеты, не знающей личных авторитетов, взирает на редкие творения бессмертных индивидуальностей; кто в исторической справедливости, которую они помогают осуществить, и в понимающем восхищении гением ищет глубочайшего удовлетворения литературного чувства жизни.
Этому участию в национальном и всемирно-литературном деле пусть будет рекомендована и эта книга со всеми её слабостями и недостатками. Тяжесть этих недостатков не могла ускользнуть от меня, поскольку я не имею ни опыта в технике искусств, ни основательного знания их истории. Но эти недостатки могут повлиять на содержание моих рассуждений, но не на подлинную цель моей работы. Эта цель направлена исключительно на обоснование эстетики в системе философии. Эстетика – не теория искусств. У искусств нет общей теории – у каждого есть своя особенная. Теории содержат понятия; только эстетика содержит принципы. И всякое занятие эстетикой останется неполноценным и поверхностным, если понятия должны заменить принципы. Кто серьёзно относится к эстетическому размышлению, тот не должен бояться школы философии, не должен презирать отечественную школу, в которую вступили наши поэты.
Систематическое обоснование оправдывает слова Винкельмана, предвосхитившего идеальное понятие Канта: La bellezza pud ridursi a certi principj, ma non definirsi («Красота может быть сведена к определённым принципам, но не определена»).
Марбург, 29 апреля 1889 г.
Автор.
Обоснование
Обоснование должно быть выведением из основания. Это столь же многообещающе и двусмысленно, сколь и образно. Но в чувственном корне этого выражения заключена ориентирующая сила, и в этом отношении обоснование превосходит другие выражения для доказательства, хотя почти все они происходят из первоначально чувственного значения. Лейбниц в своих «Непредвзятых мыслях относительно употребления и улучшения немецкого языка» показал это на слове Erörterung («разбор»): «Его понимают из языка горняков; у них Ort значит то же, что конец» [1]. И так Кант обозначил выражения Grund («основание»), abhängen («зависеть»), woraus fliessen («из чего вытекать»), Substanz («субстанция») как «косвенное представление по аналогии» или как «символ для рефлексии» (С. 230) [2].
Grund означает двоякое: во-первых, базу и фундамент; но прежде всего – почву и землю. Фундамент – это опора для здания, которое возводится над ним. Почва же – предпосылка и основание как для фундамента, так и для возвышающейся над ним постройки. И именно в этом двойном направлении здесь следует понимать и пытаться осуществить обоснование.
Обоснование эстетики создаёт прежде всего базу и общность для эстетических понятий, в которых повсюду совершается эстетическое суждение. Такую базу, такое основание обычно предполагают там, где обычно говорят об эстетических принципах. Такую основу для всех более специальных понятий, такое их объединение и единство считают возможным требовать и признавать в качестве принципа.
Но и принцип обладает той чувственной двусмысленностью. Является ли он лишь последующим обобщением понятий, или же его следует рассматривать и искать как исходный пункт и источник? Достаточно ли просто собрать имеющиеся понятия о прекрасном, насколько это удается, в одном основании, чтобы в своего рода логическом удовольствии охватить множество понятий в одном или немногих основных понятиях?
Во всех областях духа принципы означают и выражают нечто большее и иное: они призваны обозначать происхождение и правовое основание, по меньшей мере источник и корень содержаний познания. На этом смысле и притязании принципов основывается связь всех областей культуры с философией; ибо хотя предметные предпосылки, которые делают науки, могут быть найдены и указаны, но правовое основание для них они оставить не в состоянии. То, что они делают предпосылки в понятиях и суждениях, и какие именно, – это они могут, в крайнем случае, установить для себя; но каким правом, помимо своего домашнего права, они делают эти предпосылки своей основой – это значение принципа лежит за пределами предметных ценностей всех отдельных принципов культуры: в нем науки, как и искусства, ограничиваются философией.
Это действие принципа обозначает основание в другом значении: как почву и грунт. Ибо только тогда, когда фундамент возводится на собственный подпочвенный слой, можно отвести подозрение в произвольности и случайности от признанных в качестве предпосылок принципов и основ. Существует лишь одно оправдание для всех принципов как принципов: оно состоит в доказательстве их связи в и на почве, из которой произрастают все виды и направления культуры. Основание почвы распределяется на основания фундаментов. Но оно остается тем же самым в развертывании и обособлении основ.
Такой смысл имеет теперь и обоснование эстетики. Она должна исследовать не только так называемые принципы, в которых эстетические понятия могут быть собраны; но как такие предпосылки и основы она должна доказать, что они соответствуют другим предпосылкам и основам культурных произведений и вместе с ними принадлежат общему грунту, из которого вся культура произрастает в своих особых принципах, и составляют его.
Этот общий грунт всех основ представляет система критической философии. И потому обоснование эстетики есть выведение ее основы из системы критики. В системе критики оба значения основания находят свое разрешение, ибо только связь принципов каждого отдельного вида принципов обеспечивает их ценность.
Чтобы понять обоснование эстетики у Канта в и из системы его критической философии, требуются, по-видимому, два рода предпосылок: во-первых, воспроизведение основных идей его учения об опыте и его учения о нравственности, а затем общего состояния эстетической рефлексии, из которой систематическое обоснование эстетики у Канта созрело.
Первый род предпосылок, без сомнения, будет признан. Ибо, если даже нельзя считать установленным, какую ценность имеет и сохраняет эстетика Канта, то признается, что таковая, если и поскольку она существует, состоит преимущественно во включении эстетики в систему областей философского познания. До того времени существовало две главных области, которые, согласно не лишенной двусмысленности аристотелевской терминологии, различались как теоретическая и практическая философия. Этот способ различения сам по себе, без собственной вины Аристотеля, был способен затруднить возникновение эстетики: поскольку она, казалось, должна была принадлежать либо к теоретической, либо к практической философии.