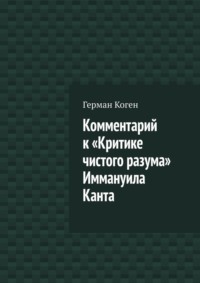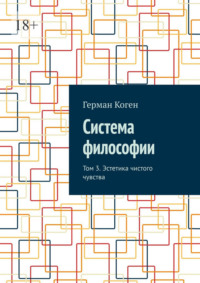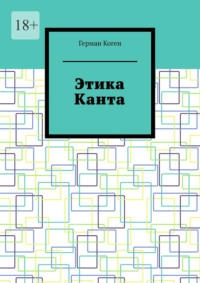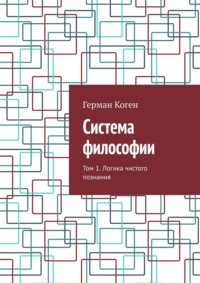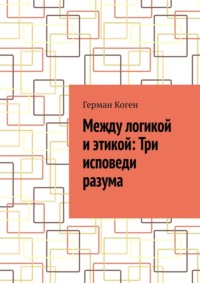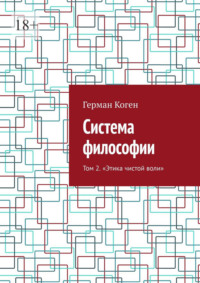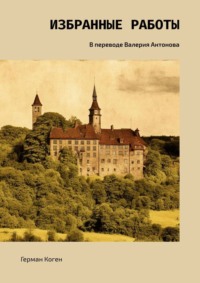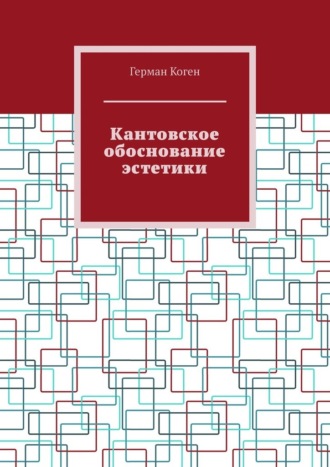
Полная версия
Кантовское обоснование эстетики
Этот вывод имеет фундаментальное значение для неокантианства, особенно для марбургской и баденской школ. Если марбуржцы (Коген, Наторп) акцентировали логико-методологическое единство познания и морали, то баденцы (Виндельбанд, Риккерт) подчеркивали ценностную природу этики и ее связь с культурой. Для обоих направлений кантовское понимание автономии стало основой критики натурализма и историцизма. Однако именно эстетический аспект этики, затронутый, но не развитый Кантом, открывает путь к современным дискуссиям о межсубъективности, коммуникативной рациональности (Хабермас) и этике дискурса.
В более широком контексте кантовская идея нравственного субъекта как творца закона предвосхищает экзистенциалистский тезис о человеке как проекте (Сартр) и постструктуралистские концепции автономии (Фуко). Однако, в отличие от позднейших релятивизаций, Кант сохраняет универсализм морали, что делает его этику незаменимым ориентиром в эпоху ценностного плюрализма.
Таким образом, субъект нравственности у Канта – это не просто абстрактный законодатель, а живое единство свободы и необходимости, индивидуальности и универсальности, этики и эстетики. Его анализ раскрывает не только систематическую строгость трансцендентального метода, но и его непреходящую актуальность для философии XX—XXI веков.
Первая глава «Закономерность эстетического сознания»
Глава первая "Закономерность эстетического сознания" представляет собой глубокий философский анализ трансцендентальных оснований эстетики в рамках неокантианской традиции. Коген последовательно развивает кантовский трансцендентальный метод, применяя его к сфере эстетического сознания, что имеет далеко идущие последствия как для неокантианства, так и для современной философии в целом.
Центральная проблема главы – вопрос о возможности закономерности эстетического сознания, аналогичной закономерностям научного и нравственного сознания. Если в науке такая закономерность обнаруживается в синтетических основоположениях, а в этике – в принципе автономной воли, то в эстетике этот вопрос оказывается значительно более сложным. Коген показывает, что в отличие от науки и морали, где скептицизм не может поколебать их внутреннюю необходимость, эстетическое сознание оказывается более уязвимым для сомнений в своей закономерной природе.
Особую ценность представляет проведённый автором анализ психологических предпосылок эстетического сознания. Он последовательно различает между психологическим описанием эстетических процессов и их трансцендентальным обоснованием, следуя кантовскому различению эмпирической и трансцендентальной экспозиции. При этом Коген демонстрирует, как психологический анализ, достигнув своих границ, уступает место трансцендентальному исследованию условий возможности эстетического суждения.
Ключевым достижением главы является разработка концепции чувства как особой душевной способности, отличной от познания и воли. Коген показывает, что эстетическое сознание основано на "свободной игре познавательных способностей", где воображение и рассудок находятся в гармоническом соотношении. Это позволяет преодолеть узкий психологизм и субъективизм в понимании эстетического, не впадая при этом в объективизм традиционной метафизики.
Философские следствия этого анализа значительны для всего неокантианства. Во-первых, демонстрируется плодотворность трансцендентального метода за пределами теории познания, в сфере эстетики. Во-вторых, разрабатывается оригинальное понимание a priori, где различаются метафизическое и трансцендентальное a priori. В-третьих, предлагается решение проблемы объективности в эстетике через концепцию "всеобщей сообщаемости", что открывает новые перспективы для понимания интерсубъективной природы эстетического суждения.
Для современной философии этот текст важен как пример последовательного проведения трансцендентального подхода в эстетике, избегающего как крайностей психологизма, так и спекулятивного объективизма. Разработанная здесь концепция эстетического сознания как особого направления духа, обладающего собственной закономерностью, предвосхищает многие дискуссии XX века о природе эстетического опыта и его месте в системе культуры.
Особого внимания заслуживает анализ кантовского понимания чувства, где Коген выходит за рамки простого отождествления эстетического с удовольствием, показывая его связь с более фундаментальными структурами сознания. Это открывает путь к нередукционистскому пониманию эстетического, сохраняющему его специфику, но при этом обоснованному трансцендентально.
В главе "Закономерность эстетического сознания" исследуется априорная структура эстетического опыта, которая, подобно нравственному закону, не сводится к механическому детерминизму или чисто субъективным предпочтениям. Кант показывает, что эстетическая закономерность коренится не в категориях рассудка, как в теоретической философии, и не в императивах разума, как в этике, а в идеях, которые задают особый тип целесообразности – формальной и субъективной. Эта целесообразность не имеет конкретной цели (как в утилитарном или моральном действии), но проявляется как свободная гармония познавательных способностей – воображения и рассудка.
Эстетическое суждение, согласно Канту, обладает уникальным статусом: оно претендует на всеобщность, но не опирается на понятия. Это "субъективная всеобщность", выраженная в идее "всеобщего голоса", который, однако, не может быть доказан, а лишь предполагается как необходимое условие коммуникации чувств. Таким образом, эстетическое априори – это не закон природы и не моральный закон, а закон свободы в сфере чувственности, где прекрасное нравится "без интереса" и без подчинения внешним правилам.
Ключевым для понимания эстетической закономерности становится понятие "целесообразности без цели". В отличие от телеологии природы, где целесообразность связывается с функцией или полезностью, в искусстве и природной красоте она чисто формальна и выражает внутреннюю гармонию сознания. Это не объективная закономерность явлений, а субъективная закономерность восприятия, которая, тем не менее, претендует на общезначимость.
Особое значение здесь приобретает гений как фигура, в которой природа дает искусству правило. Гений не следует готовым схемам, но создает произведения, которые становятся образцами, не поддаваясь полной рационализации. Таким образом, эстетическая закономерность оказывается парадоксальной: она не формулируется в виде четких правил, но при этом требует всеобщего признания.
Для неокантианства этот анализ Канта имеет двоякое значение. С одной стороны, он утверждает автономию эстетического, освобождая его от подчинения познанию и морали (что критиковали, например, представители Баденской школы, настаивавшие на примате ценностного подхода). С другой – ставит вопрос о трансцендентальных условиях эстетического опыта, что повлияло на феноменологию (Гуссерль, Ингарден) и герменевтику (Гадамер), где эстетическое восприятие рассматривается как способ раскрытия смысла.
В современной философии кантовская идея эстетической автономии переосмысляется в нескольких направлениях:
1. Критика тотальной рационализации (Адорно, Маркузе): искусство как сфера, сопротивляющаяся инструментальному разуму.
2. Коммуникативная функция эстетического (Хабермас): искусство как медиум интерсубъективного понимания, где "всеобщий голос" интерпретируется в терминах дискурсивной этики.
3. Постструктуралистская деконструкция (Деррида, Лиотар): критика кантовской "всеобщности" как метафизической иллюзии, акцент на множественности эстетических языков.
Кант, таким образом, закладывает основу для понимания эстетики не как второстепенной дисциплины, а как ключевого измерения человеческого опыта, где свобода и необходимость, субъективное и всеобщее, природа и культура находят свое опосредование. Его анализ предвосхищает современные споры о статусе искусства в эпоху технической воспроизводимости (Беньямин), о границах интерпретации (Эко) и о роли эстетического в формировании коллективной идентичности (Рансьер).
Философские следствия для неокантианства и современной мысли:
– Неокантианство (Коген, Наторп, Кассирер) развивает кантовскую идею символических форм, где искусство становится способом объективации смысла наряду с наукой и моралью.
– Феноменология (Мерло-Понти) акцентирует телесность и дорефлексивный характер эстетического восприятия, что корректирует кантовский интеллектуализм.
– Постмодернизм подвергает сомнению саму возможность "чистого" эстетического суждения, видя в нем идеологическую конструкцию.
Таким образом, глава о закономерности эстетического сознания остается актуальной как попытка осмыслить искусство не просто как украшение жизни, а как форму трансцендентальной практики, в которой человек утверждает свою свободу и способность к универсальному пониманию.
Вторая глава: «Содержание эстетического сознания»
Всякое содержание сознания определяется законом, который данный вид сознания реализует. Направление, избираемое каждым видом сознания для исполнения своего закона, порождает содержание не как нечто внешне предписанное, а как имманентно создаваемое, чисто производимое, а не воспроизводимое извне. Эстетическое сознание, таким образом, должно выводить своё содержание из собственной закономерности. Отрицательно это содержание можно определить как не сводимое ни к природной истине (научное сознание), ни к добру (моральное сознание), поскольку эти содержания принадлежат другим видам сознания. Искусство гения – не наука, а игра – не нравственность.
Позитивно содержание эстетического сознания раскрывается через понятие чувства, которое, в отличие от простого удовольствия или неудовольствия, обладает объективными признаками: всеобщей сообщаемостью, интеллектуализацией в орган созерцательной оценки и даже задачей объективации интеллигибельного субстрата. Чувство здесь – не просто психологический процесс, а направление сознания, создающее собственное содержание. Оно не растворяется в субъективности, но наполнено формой, длительностью и напряжённостью.
Однако это содержание – лишь форма содержания, игра, в которой направления сознания соединяются, представляя целесообразность, решаемую в "счастливой пропорции" гения. Эстетическое сознание порождает чувство как своё содержание в этой игре.
Философские следствия для неокантианства и современной философии
1. Автономия эстетического
– Кант радикально отделяет эстетическое от познания и морали, утверждая его как самостоятельную сферу, где чувство не подчинено ни истине, ни добру, а следует собственной закономерности.
– Для неокантианства (особенно Баденской школы) это стало основой для разработки теории ценностей: эстетическое – особая аксиологическая модальность, не сводимая к логике или этике.
2. Чувство как объективное содержание
– Кант преодолевает субъективизм в эстетике, показывая, что чувство не просто индивидуальное переживание, а структурированное сознанием содержание, обладающее всеобщностью.
– Это предвосхищает феноменологию (Гуссерль) с её идеей интенциональности: эстетическое чувство направлено на объективные формы, а не на психологические состояния.
3. Искусство как синтез природы и свободы
– Эстетическое сознание соединяет природное (чувственное) и нравственное (интеллигибельное), но не механически, а в новом качестве – форме чувства.
– Для Шеллинга и романтиков это стало основой философии искусства как высшего синтеза, а для Гегеля – ступенью в развитии абсолютного духа.
4. Критика психологизма
– Кант отвергает сведение эстетического к психологическим процессам (например, к "волнам сознания").
– Это повлияло на Гуссерля и Гартмана, которые также боролись с психологизацией философских категорий.
5. Проблема формы и материала
– Форма в эстетике – не схема или категория, а живая игра воображения и рассудка (в прекрасном) или разума (в возвышенном).
– Неокантианцы (Кассирер) развили это в теорию символических форм, где искусство – автономный способ миропонимания.
6. Возвышенное и границы разума
– Возвышенное показывает, как эстетическое выходит за пределы чувственного, сталкивая воображение с идеями разума.
– Это повлияло на философию экзистенциализма (Ясперс) и постструктурализма (Лиотар), где возвышенное связано с непредставимым.
7. Эстетическое и моральное: не сводимость, но связь
– Хотя Кант разделяет эти сферы, он признаёт, что прекрасное – "символ нравственного", а возвышенное прямо связано с моральным чувством.
– Это породило дискуссии в современной этике (например, у Адорно: искусство как форма критики инструментального разума).
8. Проблема юмора и безобразного
– Кант лишь намечает тему юмора как эстетического преодоления безобразного, что позже развили романтики (Жан Поль) и философы комического (Бергсон).
Третья глава. Искусства как способы порождения эстетического содержания
Третья глава, посвящённая искусствам как способам порождения эстетического содержания, раскрывает глубокую взаимосвязь между эстетическим сознанием и другими формами человеческой деятельности, такими как познание, мораль и язык. Эстетическая направленность сознания, как подчёркивается, является универсальной, присущей всем народам и культурам, и присутствует уже в самых ранних проявлениях человеческого духа. Это делает бессмысленным вопрос о том, что первично – восприятие прекрасного в природе или в искусстве, поскольку эстетическое сознание формируется одновременно с развитием самого сознания, а искусство становится его важнейшим инструментом.
Особое внимание уделяется взаимодействию эстетического и морального сознания. Уже на заре человеческой мысли нравственные идеи переплетались с эстетическими мотивами, что особенно ярко проявляется в таких феноменах, как любовь и дружба. Любовь, будь то между полами, к отечеству или к божественному, всегда идеализирует свой объект, создавая новые образы, которые не только отражают нравственные ценности, но и преображаются под влиянием эстетического чувства. Однако по мере развития культуры различные направления сознания – познавательное, моральное, эстетическое – обособляются, хотя и продолжают взаимодействовать, а искусство становится самостоятельной силой, способной перерабатывать содержания других сфер и порождать новые эстетические формы.
Трансцендентальное обоснование эстетики, как показывает анализ, не может ограничиться лишь формальными критериями, но должно учитывать конкретные проявления искусства, поскольку именно в произведениях искусства эстетическое содержание находит своё наиболее полное выражение. Кант, классифицируя искусства по аналогии с языком, выделяет три основных способа выражения: слово (артикуляция), жест (жестикуляция) и тон (модуляция). Эти формы соответствуют трём видам искусств – словесным, изобразительным и музыкальным. Однако критический взгляд на эту классификацию позволяет увидеть её ограниченность: жест, например, не может полностью передать созерцание, а тон – все многообразие чувственных впечатлений. Тем не менее, кантовский подход остаётся методологически значимым, поскольку он стремится выявить внутреннюю закономерность эстетического сознания через анализ его выразительных средств.
Особое место в этой системе занимает поэзия, которая, по Канту, является высшей формой словесного искусства. В отличие от красноречия, которое подчинено прагматическим целям убеждения, поэзия представляет собой свободную игру воображения, способную оживлять понятия, превращая их в эстетические идеи. Именно поэзия, благодаря своей способности связывать понятия с богатством мыслей, недоступным научному языку, возвышает сознание до уровня сверхчувственного, используя природу как символ, а не как схему. При этом поэзия не просто иллюстрирует моральные или познавательные идеи, но даёт им новую жизнь, освобождая их от жёстких рамок системного мышления и открывая бесконечные возможности интерпретации.
Музыка, в свою очередь, рассматривается как искусство игры ощущений, где материальная основа – звук – преобразуется в чистую форму благодаря математической организации тонов. Кант, критикуя чисто физикалистские интерпретации музыки (например, теорию Эйлера), подчёркивает, что эстетическая ценность звука заключается не только в его физических свойствах, но и в его способности вызывать рефлексию, превращая ощущение в форму. Чистота звука, его пропорциональность и ритмическая организация делают музыку не просто приятным, но и глубоко содержательным искусством, способным выражать сложные эмоциональные и даже сверхчувственные состояния.
Философские следствия этого анализа для неокантианства и современной философии заключаются в понимании искусства не как вторичного по отношению к познанию или морали, а как самостоятельной силы, формирующей сознание и культуру. Эстетическое содержание не просто дополняет другие формы человеческого опыта, но активно участвует в их создании, что ставит под сомнение жёсткие границы между теоретическим, практическим и эстетическим разумом. Более того, кантовская идея о том, что искусство (особенно поэзия и музыка) способно выражать то, что недоступно прямому понятийному выражению, предвосхищает многие темы современной философии искусства, герменевтики и феноменологии, где язык и символ рассматриваются как ключевые инструменты понимания человеческого бытия.
Таким образом, третья глава не только углубляет кантовскую эстетику, но и открывает новые перспективы для философского осмысления искусства, показывая, что эстетическое сознание – это не просто частный аспект человеческой психики, а фундаментальный способ отношения к миру, в котором соединяются чувственное и сверхчувственное, индивидуальное и универсальное.
Кант, как отмечается, исходит из психологического факта различия между качественным, объективным содержанием ощущения и его субъективным тоном, что подчеркивает автономию формальных ощущений, лежащих в основе музыкально-эстетического сознания. Однако эта автономия не означает изоляции: музыка, как и все искусства, должна отсылать к более широким содержаниям – природным и нравственным, – формируя единый материал искусства через специфику своего выражения.
Кант рассматривает музыку как искусство, которое "говорит одними лишь ощущениями без понятий", не оставляя пространства для рефлексии, но при этом способное волновать душу глубже и разнообразнее, чем поэзия. Это волнение, однако, не проистекает из ассоциированных с музыкой мыслей, которые, по Канту, являются лишь результатом механической ассоциации. Вместо этого музыка становится "языком аффектов", где пропорции тонов (модуляция) образуют универсальный язык ощущений. Таким образом, музыка получает в качестве материала аффекты – представления сознания движения, которые, соединяясь с сознанием представления, могут порождать нравственные идеи. Однако эти идеи не являются абстрактными понятиями, а скорее эстетическими идеями, выражающими "несказанное богатство мыслей" через гармонию и мелодию.
Этот анализ приводит к важному выводу: музыка, в отличие от других искусств, является по своей сути символическим искусством. Её содержания – не единичные предметы природы или нравственности, а тематические структуры, которые сами по себе представляют эстетические идеи. В этом смысле музыка не просто разрешает конфликт между предметом и идеей, как это делает символ в других искусствах, – она изначально существует в символической форме, где звуки и гармонии суть непосредственные воплощения эстетической идеи. Это делает музыку уникальной в системе искусств: её содержание – это само движение внутреннего, субъективного, выраженное через математически организованные звуковые структуры.
Далее в главе рассматривается критика теории Рихарда Вагнера, который, стремясь к синтезу поэзии и музыки, фактически подчиняет музыку поэзии, утверждая, что "музыка не может мыслить" и что её истинная мелодия рождается только под влиянием поэтического намерения. Этот взгляд, однако, противоречит кантовскому пониманию автономии музыкального искусства, где тематическое богатство мыслей возникает из внутренних законов гармонии и мелодии, а не из внешнего поэтического содержания. Вагнер, напротив, видит в музыке лишь "рождающее начало", которое нуждается в "оплодотворении" поэтической мыслью, что, с точки зрения автора главы, ведёт к утрате специфики музыкального выражения.
Ещё более радикальным является вагнеровское утверждение о том, что и поэзия зависит от музыки, поскольку язык изначально возник из мелодии. Однако эта теория, по сути, отрицает самостоятельность поэтической мысли, сводя её к чувственному звучанию. В результате, как показывает Коген, вагнеровская концепция "драмы будущего" приводит к растворению поэзии в музыке и, более того, к отказу от традиционных эстетических ценностей – таких как фантазия, понятийное мышление и нравственная рефлексия. Вместо этого Вагнер провозглашает примат "непроизвольного чувства", что, с точки зрения кантовской традиции, означает редукцию искусства к чистой чувственности и страсти, лишённой духовного измерения.
Завершается глава анализом изобразительных искусств – живописи и пластики, – которые, в отличие от музыки, непосредственно соотносятся с миром природы и нравственности, выражая эстетические идеи через видимость и форму. Кант подчёркивает, что изобразительные искусства, особенно живопись, способны глубже проникать в область идей, расширяя поле созерцания и способствуя культуре духа. В этом отношении они превосходят музыку, поскольку их материал (формы, жесты, исторические и моральные сюжеты) предоставляет более широкие возможности для выражения "невыразимого" богатства мысли.
Тем не менее, каждое искусство обладает своей уникальной ценностью: поэзия одухотворяет слово, изобразительные искусства раскрывают идеи через видимость, а музыка создаёт собственный мир внутреннего, где субъективность становится объективностью. Таким образом, проблема соединения искусств оказывается связанной с более фундаментальной философской проблемой гармонизации различных видов сознания – природного, нравственного и эстетического. В этом смысле искусство, по Канту, не просто отражает мир, но активно формирует новую реальность, где природа и нравственность становятся материалом для свободной игры духовных сил.
Философские следствия для неокантианства и современной философии
1. Автономия искусства и проблема символа
Кантовский подход, развитый в главе, подчёркивает, что искусство не сводится ни к познанию, ни к морали, но обладает собственной логикой выражения. Это имеет важные последствия для неокантианства, особенно для марбургской и баденской школ, которые по-разному интерпретировали кантовскую эстетику. Если марбуржцы (Коген, Наторп) акцентировали логическую структуру искусства как формы культуры, то баденцы (Виндельбанд, Риккерт) делали упор на его ценностном характере. Анализ музыки как символического искусства показывает, что эстетическое содержание не может быть сведено ни к чистой форме, ни к внехудожественным ценностям – оно возникает в диалектике чувственного и сверхчувственного.
2. Критика редукционизма в эстетике
Полемика с Вагнером демонстрирует опасность редукции искусства к одному из его элементов – будь то чувственность (как у Вагнера) или понятийность (как в некоторых рационалистических теориях). Для современной философии это актуально в контексте споров о природе искусства: является ли оно автономной практикой (как у Адорно) или частью более широких социальных процессов (как у Бурдьё). Кантовский подход, развитый в главе, предлагает третий путь: искусство как медиум, в котором различные виды сознания (природное, нравственное, эстетическое) вступают в свободную игру.
3. Проблема междисциплинарности в искусстве
Вопрос о соединении искусств (поэзии и музыки, живописи и архитектуры) перекликается с современными дискуссиями о междисциплинарности. Кант предупреждает, что такое соединение не должно приводить к утрате специфики каждого искусства – идея, которая находит отклик в современных теориях медиа (Маклюэн) и интермедиальности.
4. Эстетика и антропология
Наконец, анализ музыки как "языка аффектов" и жеста в изобразительных искусствах как выражения духа указывает на связь эстетики с философской антропологией. Это особенно важно для современных исследований, где искусство рассматривается как ключ к пониманию человеческой субъективности (как у Мерло-Понти или Жильсона).
Четвертая глава. Критическая эстетика, её друзья и противники
Четвертая глава, посвященная критической эстетике и её месту в неокантианстве и современной философии, представляет собой глубокий анализ эстетической теории Канта и её влияния на последующую философскую мысль, а также противопоставление классического и романтического подходов к искусству. Коген начинает с утверждения, что эстетика Канта тесно связана с классиками литературы и поэзии, подчёркивая, что критерием классичности является интерес к особенному, которое искусство производит в отличие от других форм духовной деятельности. Этот момент, по мнению автора, служит ключевым признаком классического направления не только в искусстве вообще, но и в отдельных его видах. Лессинг, например, открывает классическую эпоху, разъясняя специфику каждого искусства и разрешая его пограничные конфликты с другими. Однако Коген ставит перед собой задачу не столько исследовать классичность художественного направления, сколько определить, в чём заключается классическая ценность философии искусства, принимая во внимание именно этот интерес к особенному.