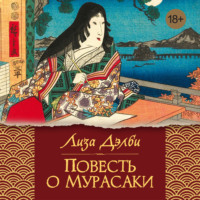Полная версия
Повесть о Мурасаки
Накануне расставания мы поссорились. Это весьма огорчило меня. Я была уверена, что подруга поймет мои устремления, как только я растолкую ей, почему следует оставаться верными действительности. Но она не поняла. И упорно настаивала на том, что не видит причин, мешающих мне включать в повествование любые прихоти воображения.
– Это твои рассказы, – твердила она. – Ты можешь писать как угодно. Зачем себя ограничивать?
Меня так огорчало ее непонимание, а заодно и собственное огорчение, что, боюсь, я возражала довольно невразумительно. Во всяком случае, Рури мне переубедить не удалось.
Когда я не задумывалась о сути творчества, было намного легче: я просто писала, только и всего. Садилась, брала в руку кисть, представляла Гэндзи в каких‑либо обстоятельствах и описывала то, что виделось мне в мыслях. А теперь, к несчастью, начала задумываться и утратила почву под ногами. Писала строчку – и сразу вычеркивала ее. Я больше не могла доверять своим суждениям. Не лучше ли удалить все отсылки к Бо Цзюй-и?
Рури заставила меня подвергнуть сомнению весь мой подход. То, что когда‑то представлялось естественным, теперь выглядело странным. Прошлое Гэндзи давалось мне гораздо сложнее, чем я надеялась.

Большое влияние на меня оказал тетушкин «Дневник эфемерной жизни». При первом прочтении больше всего меня поразило одно ее утверждение в начале текста. Она пребывала в унынии и, пытаясь отвлечься, обратилась к старинным любовным историям, однако не нашла ни одной, которая была бы созвучна ее обстоятельствам. Все это были, по словам тетушки, беспримесные выдумки. Потому‑то она и решила описывать настоящую жизнь, какой бы унылой та ни была, а не сочинять сказки.
Само собой, некоторые сочли плод ее трудов бреднями помешавшейся брошенной жены. Других смущали откровенные признания в ревности, отчаянии, тоске и других чувствах, о которых люди предпочитают не объявлять во всеуслышанье. Но мне казалось, что тетушка, каковы бы ни были ее побуждения, проявила невероятную смелость, открыв свою душу миру. «Дневник эфемерной жизни» остается самой волнующей из всех известных мне книг.
Следуя религиозным обетам, тетушка полностью отказалась от литературного творчества. Она говорит, что однажды ей захотелось высказаться, она высказалась, и ей больше нечего добавить. По-моему, с помощью писательства она сумела отчасти избавиться от ядов, отравлявших ее нутро. Теперь ее спокойствию можно было позавидовать. Мне страстно хотелось показать тетушке свои рассказы о Гэндзи, однако я колебалась, боясь услышать ее мнение. Окажись она слишком придирчивой, я бы этого не вынесла. Меня посещала мысль оставить ей отрывки рукописи после моего отъезда в город, но я не отважилась даже на это, о чем впоследствии жалела.

По возвращении в столицу я по-прежнему время от времени виделась с Рури, но мы перестали быть «двумя птицами с общим крылом», как мне казалось в течение лета. Я сделалась беспокойной и переменчивой. Рури изо всех сил старалась проявлять понимание. Она попросила ненадолго одолжить ей кото, вероятно надеясь вернуть беззаботное летнее настроение. Затем попросила научить ее играть. Стыдясь собственной черствости, я написала ей это пятистишие:
Разве ты станешьПрислушиваться к голосуБукашки мелкой,Что в мокрой от росы полыниСтрекочет поутру?Однако просьбе подруги я уступила, хотя к тому времени сочинительство так захватило меня, что я с неохотой откладывала кисть. Рури спрашивала, как продвигается дело, желая подбодрить меня, но мне не хотелось обсуждать свое творчество. По крайней мере, игра на кото давала предлог сосредоточиться на чем‑то ином.
Когда мне удавалось достичь необходимого состояния, слова лились потоком. Иногда этот поток напоминал стремительный ручей, и разум лишь на мгновение задерживался в тихом омуте, куда нырял в поисках точного образа. Затем, вновь отдаваясь течению, я плыла, будто лист, влекомый посторонним усилием. Всякий раз, когда у меня выдавалось подобное утро, я бывала весела до самого вечера и даже могла поиграть со своими младшими сводными братьями в саду. К сожалению, такие дни выпадали нечасто. Чаще всего я увязала в грязном иле, радуясь даже капле мысли, которой удавалось разжиться. Бывали и такие периоды, когда мне было нечем похвастаться после целого утра, проведенного за письменным столиком. Когда я делалась ершистой, родные научились оставлять меня в покое, однако с Рури было сложнее. Если вы были близки с кем‑то, а затем обнаружили, что расходитесь во мнениях, постепенно вас начинают раздражать всевозможные мелочи, которые прежде ничуть не беспокоили. Привычки, которые некогда выглядели милыми, теперь кажутся докучными.
Рури ощутила, что мои чувства к ней изменились. Это была не ее вина. Она отзывалась на мое молчание тем, что изо всех сил старалась заполнить его, но это лишь отдаляло меня от нее. Наконец я не выдержала и написала подруге, что заболела и не принимаю гостей.
В одиннадцатом месяце она отправила мне страдальческое послание, а я ответила:
Скована льдом,Кисть моя камню подобна.Она не сумеетНарисовать для тебяКартину моих настроений.Рури откликнулась:
Пусть кисть твояЗамерзла и обледенела,Писать не бросай.И боль уплывет, словно льдинки,Подтаявшие в воде.Теперь мне стыдно, когда я вспоминаю, как Рури верила в меня, даже когда я сама в себе сомневалась.

Той зимой я играла на кото в одиночестве. Музыка представлялась отличным способом скоротать время, однако меня расстраивало, что мое исполнительское мастерство явно не возрастает. Я пожаловалась отцу, и он ответил, что, по его мнению, мне будет полезно поучиться у какого‑нибудь искусного музыканта. Возможно, стоит взять один-два урока.
– Я знаю как раз такого человека, – заявил отец. – Это принцесса, ни больше ни меньше. С тех пор, как умер ее отец, бедняжка живет в довольно стесненных обстоятельствах, но я слыхал, что она превосходная музыкантша. Возможно, я смогу устроить вашу встречу.
Отец послал даме записку, а также сушеные водоросли и морские ушки в подарок, и вскоре от нее пришел ответ на бугристом листе из луба бумажного дерева. Твердый, довольно неженственный почерк удивил меня, но послание оказалось сердечным. Принцесса из вежливости умаляла свои музыкальные способности, но сообщала, что не прочь поиграть вместе со мной на кото. Она предложила встретиться через пять дней.
Накануне вечера, когда должен был состояться урок, случился сильный снегопад, но, гонимая стремлением отвлечься и завести новое знакомство, я, невзирая на погоду, упаковала свой инструмент. Мой экипаж долго бороздил заснеженные улицы в поисках дома принцессы, находившегося на западной окраине города. Отец предупредил, чтобы я не удивлялась, но обветшалый особняк, перед которым мы в конце концов очутились, не мог не поразить меня. Отнюдь не таким представляла я себе жилище дамы императорской крови. Дряхлый страж в лохмотьях медленно, с большим усилием отворил ворота, возница загнал вола внутрь и выгрузил мое плотно укутанное от мороза кото. Я несла коробку с кобылками и бамбуковыми плектрами [29].
Озябший слуга впустил нас и провел в насквозь продуваемый главный покой, где ожидала принцесса. В особняке царил промозглый холод. Я гадала, почему хозяйка не выбрала для урока помещение поменьше и поуютнее, ведь в таких условиях пальцы не смогут извлечь ни единой ноты. Впрочем, решила я, если принцесса сможет играть на таком холоде, я тоже заставлю себя заниматься. Отец посоветовал мне одеться официально, добавив побольше слоев платья. Разумеется, я была рада, что послушалась его.
Принцесса сидела за выцветшей пурпурной ширмой, из-за которой выглядывал краешек старой собольей накидки. Госпожа поприветствовала меня высоким, несколько гнусавым голосом и осведомилась, какую мелодию я хотела бы сыграть, но из уважения к рангу учительницы я попросила ее саму сделать выбор. Принцесса предложила пьесу, о которой я, к своему смущению, никогда не слыхала и вынуждена была попросить сыграть ее для меня один раз. Дама принялась перебирать струны. Время от времени музыка сопровождалась громким шмыганьем, как будто у принцессы текло из носа, но она не могла прерваться, чтобы высморкаться. Я невольно сосредоточилась на ее сопении и всхлипах, а не на звуках скучной пьесы. Она закончилась на раскатистой низкой ноте, которая эхом разнеслась по особняку, соперничая с ветром.
– Попробуем сыграть вместе? – спросила принцесса, после того как я похвалила ее игру в самых цветистых выражениях, какие смогла подобрать.
Я предложила известное произведение. Оно оказалось ей незнакомо. Я назвала другое. О нем принцесса тоже никогда не слыхала.
– Может быть, этэнраку [30]? – спросила я, сочтя, что уж с классикой‑то впросак не попаду.
Но принцесса отказалась, заявив, что подзабыла среднюю часть.
– Вот что, – бодро произнес гнусавый голос, – давайте сделаем перерыв.
Сняв с пальцев плектры, принцесса подозвала прислужницу и что‑то прошептала ей. Другая прислужница отодвинула линялую ширму, и я мельком увидела длинное бледное лицо с выпуклым лбом. Из-за старинного веера торчал самый удивительный нос, который я когда‑либо видела: с ярко-розовым кончиком, будто подкрашенным шафраном.
Вскоре вернулась первая прислужница, осторожно неся старинные лаковые подносы, уставленные заморскими селадоновыми блюдами. Один поднос служанка поставила передо мной, другой – перед принцессой. Вероятно, предположила я, это означает, что урок окончен. В накрытых крышками мисках обнаружилось несколько ломтиков тушеной репы, которая на кухне, где ее приготовили, была еще горячей, но теперь сделалась холодной и непривлекательной, под стать игре принцессы.
И о чем только думал отец? При дворе он, надо сказать, обзавелся весьма необычными знакомствами.
Кукушка

Отец был приглашен на Праздник любования цветами в поместье, куда, стремясь поправить свое здоровье, недавно по указанию лекаря перебрался правый министр [31] Митиканэ. Чиновник страдал от приступов головокружения и тревожных снов, и ему предписали сменить место жительства, дабы избавиться от блуждающего призрака, который мог явиться причиной недуга, хотя кое-кто подозревал, что немощность министра – следствие колдовской порчи, наведенной по тайному заказу его племянника Корэтики.
На кону стояло само регентство. Было неясно, кто унаследует должность главного советника императора, и до тех пор, пока Великий совет не утвердил кандидатуру, взаимным обвинениям в чернокнижничестве не было числа. Мой отец, к примеру, подозрительно относился к Корэтике, более чем охотно верил слухам и одобрял шаги Митиканэ, направленные на противодействие племяннику. Полагаясь на увлечение правого министра китайской поэзией, отец уже позволял себе мечтать о том, что в случае возвышения Митиканэ его опять пригласят на придворную службу.
Получи отец придворный чин, появился бы проблеск надежды, что и мне представится такая возможность. Двадцать два года – не такие уж немыслимо поздние лета; в конце концов, должностей при дворе предостаточно. Отец не мог обсуждать свои амбиции с моим тупоумным братцем и уж тем более со своей супругой, поглощенной иными заботами, поэтому делился со мной. И даже начал брать меня с собой на поэтические собрания, чтобы я могла получить некоторый опыт по части того, как ведут себя на пирах придворные. Я была совершенно очарована красотой строений временной резиденции Митиканэ, а еще больше – садом. К поместью подвели воды реки Накагава, в результате чего образовались озерцо и ручей, протекавший под и рядом с галереями, соединяющими здания. Средоточием возделанного участка являлся холм в виде китайской волшебной горы. Мне сообщили, что это рукотворный пейзаж. При взгляде на него было трудно поверить, что он не всегда был таким, ибо ландшафт казался совершенно естественным. Однако до того, как рабочие привезли сюда тысячи тачек земли, здесь не было ничего выше муравейника.
Цвели ирисы, и я несколько часов с радостью бродила по берегу ручья, любуясь каждой новой купой деревьев, возникающей в поле зрения за изгибами русла. К концу дня сад прямо‑таки кишел придворными, которые резвились, точно бабочки среди пионов. Под уже отцветавшими сакурами расстелили тростниковые циновки; женскую половину отгородили шелковыми ширмами горчичного цвета, каждая из которых была украшена двумя узкими лентами, чей насыщенный розовый оттенок постепенно бледнел к краям. Я решила, что никогда не видела ничего более утонченного.
Отец рассчитывал, что, когда Митиканэ станет регентом, он тоже получит выгодную должность. Все присутствовавшие на празднестве гости лелеяли схожие надежды. Как и мой родитель, большинство из них обретались на обочине придворной жизни. В течение пяти лет регентство находилось в руках старшего из братьев, Мититаки. Весной он умер, и вопрос о его преемнике породил много надежд. Кому достанется власть: его сыну Корэтике или брату Митиканэ? Оба они могли претендовать на высокий пост, будучи потомками Канэиэ, могущественного бывшего регента. В настоящее время Митиканэ, как правый министр, питал осторожную уверенность в своем преимуществе. Его сторонники, собравшиеся в поместье, пребывали в напряжении, однако разделяли надежды хозяина, а ясное голубое небо и живописные кущи цветущей сакуры как будто предвещали успех.
Отец написал китайское стихотворение, в котором сравнивал Митиканэ с поздно зацветшим деревом, наконец‑то вступившим в лучшую пору. Он не оставлял рифмы на волю случая, и другие поэты следовали его примеру. Я наблюдала за тем, как отец, получив бумагу и кисть, записывает свое пятистишие стремительным, небрежным почерком. Мне было известно, что он несколько дней бился над образами, которые теперь преподнесет как итог внезапного вдохновения.
Чарки, наполненные саке, установили на плотиках в форме птиц и пустили вниз по течению. Каждый гость старался завершить свое пятистишие к тому времени, когда плотик доберется до конца ручья. Победитель состязания получал напиток и право прочитать свое сочинение вперед остальных. Отец прекрасно знал, что первостепенное значение на Празднике любования цветами имеет внешний вид, и предварительно продумал даже степень своего опьянения, не желая казаться ни трезвенником, ни выпивохой.
– В подпитии можно сказать то, что в обычной обстановке говорить неловко, – объяснял он мне.
Однако чем больше празднеств я посещала, тем яснее понимала, что не все разделяют отношение моего отца к хмельному. Он сам предупреждал меня, что на пирах после определенного времени мне следует удаляться в дом, ибо некоторые мужчины неизбежно теряют всякий стыд.
– От пьяного, если он действительно захмелел, а ты начеку, отбиться довольно легко, – наставлял меня отец. – Но меня беспокоят коварные притворщики, прячущие похоть под личиной опьянения. Не хочется, чтобы тебя загнали в угол.
Я промолчала. Отец ничего не знал о происшествии с начальником отряда лучников.
По его словам, важные дела решались на улице, под ветвями цветущей сакуры, во время празднеств, подобных нынешнему. Решения, принятые под сенью пышных ветвей среди лаковых подносов и чарок с саке, на придворных церемониях чаще всего просто подтверждались.

Политическая ситуация повлияла на всех домашних. Отец замкнулся в себе и легко срывался на младших детях. Нобунори раздражал остальных разглагольствованиями о том, на какое назначение сможет рассчитывать в тех или иных обстоятельствах. Я велела брату замолчать и пойти поиграть со своими жуками, а он в ответ состроил кислую мину.
Чтобы сбежать из этой напряженной обстановки, на рассвете я отправилась в экипаже в святилище Камо помолиться. Небо ранним утром было чистое и прекрасное, окружающая тишина постепенно успокоила мой возбужденный разум. Близ Катаока я заметила одну рощу: именно в таких ожидаешь услышать неотвязный посвист маленькой серо-голубой кукушки хототогису. И мне вспомнилась Рури.
В китайской поэзии хототогису – птица, которая не может вернуться домой, как поэт в изгнании. В нашем языке у этой маленькой кукушки много прозвищ: птица рощ, обитательница лесных опушек, скиталец в сапожках, майская птица. А еще – птица с неразличимым оперением, как в стихотворной строфе хару но ё но ями ва аянаси («неразличимый узор во тьме весенней ночи»). Китайцы также называют ее определенным словом (точно не знаю, как оно произносится), которое означает «шум крыльев под дождем».
Размышляя о кукушке, ее прозваниях и образах в поэзии, я вспомнила, что Рури всегда была равнодушна к поэзии: ее больше интересовали явления природы, которые можно наблюдать собственными глазами. В еще одном известном пятистишии говорится о шапках крестьян, которые собираются сеять по весне, когда кукушки поют: асана, асана. Рури, несомненно, сказала бы: «Как глупо. Кукушка скорее щебечет тэппэн какэтака, хотчон какэтака».
Еще я вспомнила, что эта птица встречает души умерших, когда они добираются до загробного мира. Ее прозвали «вечерний лик», «воскрешающая ночь». Но в одном из самых ранних стихотворений на родном языке упоминается голос кукушки на рассвете. И снова я представила, как Рури говорит: «Что ж, тут никакого противоречия нет, ведь кукушка поет и утром, и вечером».
Хототогису Рури нравились. Помню, она захотела включить их в наш список летних птиц. И сказала, что их еще называют сёккон, «душа зеленой гусеницы». «Наверное, потому, что она поедает бедных червячков, – простодушно заметила моя подруга, – и брюшко у нее набито их маленькими зелеными душами».
В конечном счете это‑то и подводило Рури: она была чрезвычайно наблюдательна, но лишена воображения. «Хочешь узнать нечто действительно любопытное про эту птицу? – сказала она однажды, когда мы обсуждали наши списки. – Она не вьет гнезд!»
Рури дождалась моего вопроса: «А как же она высиживает потомство?», улыбнулась и сообщила, что кукушка подкладывает яйца в гнезда других птиц, чтобы те выкармливали ее птенцов. «Никого тебе не напоминает?» – лукаво осведомилась подруга. Я, кажется, ответила, что мне такие люди неизвестны, но позднее вспомнила ее слова, которые натолкнули меня на новую мысль для «Гэндзи».
Погрузившись в свои мысли и не желая возвращаться из святилища домой, я не заметила, что небо начало заволакиваться тучами. И сочинила такое стихотворение:
В тихом лесуДожидаюсь, когда прокричитХототогису.Я, верно, промокну насквозь,Пока она голос подаст.
Пока Великий совет решал, кого назначить регентом, отец каждый день посещал Митиканэ в поместье Накагава. Он находился там и в третий день пятого месяца, когда прибыл императорский гонец с указом о назначении Митиканэ регентом. К резиденции стеклись с поздравлениями толпы знати; чудилось, будто тут сгрудились все городские волы и экипажи. Поздно вечером отец вернулся домой странно притихший. Я помогла ему снять жесткую придворную шапку.
– У нас начинается новая жизнь, не так ли? – отважилась спросить я.
Отец устало улыбнулся:
– Надеюсь, Фудзи. Я слишком долго прозябал в забвении, и теперь мне трудно представить, что я опять займу ответственную должность.
– Но, мне казалось, именно об этом ты мечтал много лет, с тех пор как умерла матушка, – возразила я.
Отец почему‑то не оживился. Он вытянул ноги на циновке и окинул меня задумчивым взглядом: явно решал, чем со мной можно поделиться, а что оставить при себе. Ему было невдомек, что я вижу его насквозь.
– Меня тревожит Митиканэ. Он тщится доказать, что полон сил, но, боюсь, ему очень нездоровится. Я подслушал, как его лекари обсуждали достоинства чая из коры магнолии. Это наводит меня на мысль, что у него умственное истощение. – Отец зевнул. – Хотя, возможно, просто сказывается напряжение последних недель. Посмотрим, как будут разворачиваться события в ближайшие дни. Я устал. По крайней мере, вопрос о регентстве решен и можно перестать бояться Корэтику.

Я никогда не сказала бы этого отцу, но Корэтика пленял мое воображение. Ему шел двадцать второй год, и, как я слыхала от своих подруг при дворе, он отличался необычайной красотой. И даже некоторые приключения Гэндзи были навеяны рассказами о подвигах племянника регента. Однако Корэтика и впрямь успел нажить много недругов. Он был умен, но не слишком беспокоился о том, какое впечатление производит на окружающих. Несколько лет назад отец Корэтики продвинул его по службе через головы других сородичей, в частности двух дядюшек, и те не забыли оскорбления. Затем, после смерти отца, Корэтику назначили временным регентом. Будь он дипломатичнее, ему, возможно, удалось бы удержаться на этой должности.
Повелительные замашки молодого вельможи отчетливо проявились всего за месяц его пребывания у власти, и людей вроде моего отца это тревожило. Даже во время траура по своему усопшему родителю Корэтика не смог удержаться от издания предписаний, касающихся самых незначительных мелочей придворной жизни, которые, по его мнению, нуждались в улучшении, таких, например, как длина чиновничьих шаровар. Придворные негодовали. Неудивительно, что им не нравилось, когда столь неопытный человек указывал им, как исполнять обязанности. Корэтика, очевидно, понял, что регентство ускользает у него из рук, и предпринял некоторые шаги, чтобы выбить почву из-под ног у соперников – в первую очередь у собственного дяди. И все же мне с трудом верилось, что он действительно нанял монахов, чтобы навести порчу на Митиканэ. Полагаю, будущий регент был чересчур подозрителен.
У меня, как и у отца, тоже имелись опасения насчет Митиканэ, хотя меня беспокоило вовсе не его здоровье. Мое отношение к правому министру было обусловлено тем, что я слышала о нем на протяжении многих лет и сама наблюдала на пирах. Митиканэ был невероятно уродлив: низенького роста, коренастый, с рябым от оспы лицом и сросшимися на переносице густыми бровями, напоминающими длинную гусеницу. Даже на руках у него росли волоски. Хотя и уродец может быть наделен прекрасной душой, как правило, это большая редкость.
В случае Митиканэ наружные черты, как зеркало, отражали личность. Он был человеком властным и расчетливым; окружающие трепетали перед ним. Отец указывал на его верность жене как на свидетельство добродетели. Безусловно, никто не мог обвинить Митиканэ в ветрености, но мне отчего‑то казалось, что он просто использует собственное безразличие к любовным похождениям, чтобы с холодной головой оценивать увлечения других. Я чувствовала, что Митиканэ не столько добродетелен, сколько лицемерен. Отцу так страстно хотелось уважать покровителя, что любовь последнего к китайской поэзии, боюсь, сильно исказила отцовское представление о личности министра.
Существует поговорка: чтобы узнать сына, посмотри на отца, но справедливо и обратное. Первенец Митиканэ имел репутацию изверга. Так, на праздновании юбилея его дедушки Канэиэ он с младшим братом должен был исполнить танец, но вместо этого закатил такую сцену, что все присутствовавшие на церемонии помнят ее по сей день. Кроме того, мальчику, по-видимому, нравилось мучить животных. Поговаривают, что причиной его смерти в возрасте всего лишь одиннадцати лет стало проклятие духа змеи, с которой он живьем содрал кожу.
Могу представить себе ужас матери несчастного ребенка. Может, Митиканэ и был верным мужем, но явно винил жену в том, что она не произвела на свет дочь, которую в дальнейшем можно было бы выдать за императора. Бедняжка рожала одних только сыновей, но все они оказывались чудовищами. В довершение всего у братьев Митиканэ, Митинаги и Мититаки дочери имелись в изобилии. Жена Митиканэ в то время была беременна и, без сомнения, страстно молилась о рождении девочки. В любом случае меня беспокоило, что благополучие моего отца всецело зависит от такого человека.

Тревога отца за здоровье Митиканэ была вполне обоснованной: поздно расцветшая сакура была обречена увянуть всего через неделю. Через три дня после внезапной смерти Митиканэ был назначен новый регент. Власть, вопреки ожиданиям молодого Корэтики, перешла не к нему, а к другому его дяде, Митинаге.
Мой отец вместе с немногими товарищами остался в доме почившего покровителя, чтобы помочь с устройством похорон, тогда как подавляющее большинство придворных устремились к новому очагу влияния, средоточием которого стал Митинага. Мой отец был не из тех, кто выслуживается подобным образом. Он исполнил свой последний долг перед Митиканэ, а затем спокойно вернулся домой. В любом случае о назначениях следующего правления должны были объявить не ранее наступающего нового года. Отца несколько утешало, что свежеиспеченный регент любил своего уродливого брата и разделял кое‑какие его ученые пристрастия.