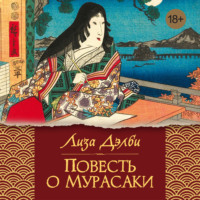Полная версия
Повесть о Мурасаки
В том году от оспы умерли более шестидесяти вельмож. Известия о все новых смертях ошеломляли меня. Список жертв пополнился именем начальника отряда лучников, и даже его мне было жаль. Однако в безымянной толпе, мимо которой мы проезжали, я увидела куда больше страданий. Из бедных домов доносились громкие стоны, но бессловесная гибель нищих не сопровождалась ни обрядами, ни сутрами. Люди походили на рыб, выловленных сетью и брошенных умирать на суше.
Потрясенная тем, что творилось вокруг, я осознала, что у нас, по крайней мере, есть поэзия, утешающая сердце, и священство, исцеляющее душу. Ученые мужи утверждают, будто простолюдины страдают меньше нас, ибо лишены образования и, будучи менее развитыми, не могут осмыслить страдания с той же силой, что и мы. Хотелось бы в это верить, ведь иначе страшно было бы представить себе всю безотрадность жизни бедноты. Мне вспомнилась строка из «Нирвана-сутры»: «Разница между человеком и животным лишь в положении; оба в равной мере любят жизнь и боятся смерти». С каждым оборотом неколебимого, как карма, колеса я ловила себя на том, что, словно заведенная, твержу молитву Каннон, бодхисаттве милосердия.
К полудню мы покинули городские улицы, направившись к восточным горам. Месяц назад мачеха увезла детей из столицы, ища убежища у своих родителей в горах к северу от Мияко. Отец, Такако и Нобунори остались дома: Такако плохо приспосабливалась к переменам, отцу же не хотелось обрывать налаженные связи при дворе. Попечение о доме было возложено на Нобунори.

Тетушкино уединенное жилище оказалось совсем не таким, как я себе представляла. Я ожидала увидеть хижину вроде той, какую описывал великий китайский поэт Бо Цзюй-и, сосланный на юг, – затерянную в горах лачугу с бамбуковой оградой, соснами-великанами и каменными ступенями. Здесь тоже были высокие сосны и простая, грубая ограда, но на захолустный приют отшельника поместье едва ли походило. Естественный облик сада был продуман тщательнее самого искусственного из пейзажей. При строительстве дома использовались простые природные материалы вроде соломы и переплетенных прутьев, но сам он по размерам напоминал скорее небольшой дворец. По бокам от главного здания располагались два отдельно стоящих флигеля, обсаженных кустами и деревьями, чтобы скрыть истинные размеры построек. Это была богатая усадьба, замаскированная под хижину, и я усматривала в ней сходство с утонченной придворной танцовщицей, нарядившейся для народного танца в крестьянское платье. Свежий воздух был напоен кедровым ароматом. Я очутилась в совсем ином мире, разительно отличавшемся от душного, зараженного оспой города.
Тетушка превратила главный покой в святилище для отправления буддийских обрядов. Она поклонялась богине Каннон и в центре зала поместила изящное позолоченное деревянное изображение бодхисаттвы, а по бокам – статуи будды Амиды размерами поменьше. Хотя при виде подобного расположения статуй некоторые священнослужители вскидывали брови, тетушка была из тех людей, которые ухитряются все делать по-своему. Я сразу ощутила обаяние безмятежной Каннон, которая отложила свой уход в нирвану и осталась в нашем мире, чтобы служить проводницей и утешительницей страдающих душ. Когда, по прошествии вечности, все разумные существа достигнут просветления, Каннон войдет в нирвану в облике женщины, была убеждена тетушка. В то время я всерьез воспринимала все, что говорила мне родственница, однако позднее выяснилось, что ее богословские представления были весьма своеобразны.
Ради накопления заслуг и улучшения кармы тетушка часами медитировала и переписывала «Лотосовую сутру». Разумеется, я всю свою жизнь слышала, как читают этот священный текст, но впервые узнала его по-настоящему. Тетушкина статуя Каннон происходила из Китая и была очень женственной, с томно изгибавшимися изящными конечностями и без намека на усы. Если у знаменитой статуи Каннон в храме Исияма было одиннадцать лиц и корона из человечьих голов, смотрящих во все стороны, тетушкина богиня имела всего одну голову и держала в руке ветку ивы и сосуд с водой.
В тетушкином доме нашла пристанище и моя дальняя родственница – молодая женщина по имени Рури (мать назвала ее в честь диковинного заморского синего камня, ляпис-лазури, который видела в императорском дворце). Словом, тем летом в усадьбе, если не считать стражи, расставленной снаружи, проживали одни только женщины.
Сколь восхитительным оказалось это место! Нам с Рури дозволялось ходить где угодно. Поскольку вокруг не было мужчин, мы напрочь избавились от занавесей, штор и ширм, и все покои стояли открытыми горному ветерку. Мы начали так беспечно относиться к своей наружности, что я забывала чернить зубы, и они постепенно тускнели, делаясь светло-серыми, а вскоре и вовсе побелели, поэтому я вновь стала походить на ребенка.
Кроме кое‑какой летней одежды, бумаги и кистей для письма я захватила с собой лишь тринадцатиструнное кото [24]. Я намеревалась проводить время, переписывая рассказы о Гэндзи, а также хотела попросить тетушку показать мне приемы игры на кото: когда‑то, еще до увлечения религией, она была отличной музыкантшей. Дома, в Мияко, перебирая в изнуряющую жару шелковые струны кото, я пыталась представить, как звучит музыка, плывущая над безлюдными, поросшими сосной горами. Потом вообразила, как Гэндзи, возвращаясь из какого‑нибудь паломничества, улавливает едва слышную мелодию и разворачивает лошадь, чтобы отыскать источник звука. Принц спешит к уединенному дому, точно пчела к нектару, и, достав флейту, начинает подыгрывать. Девушка, исполняющая мелодию на кото, изумляется, заслышав звуки флейты, подносит руку к груди и с беспокойством косится на улицу, чтобы посмотреть, кто это. Мечтательный, бессвязный мотив, который она наигрывала, сменяется более вызывающими звуками. Поспеет ли за ней флейта? Пальцы девушки пляшут по струнам, а потом она извлекает из кото особенно волнующий низкий, вибрирующий звук, и ее длинные черные волосы рассыпаются по плечам. Принцу, который остался незамеченным, удается мельком увидеть музыкантшу с невысокого холма, где он придержал лошадь. Его флейта уверенно вторит кото.
Тетушка славилась и как писательница. Некогда она была замужем за могущественным Фудзиварой Канэиэ, регентом при императоре Энъю. Отношения их были чрезвычайно неровными, и к поре моего рождения супруги окончательно разошлись. Тетушка написала и распространила дневник о страданиях, которые претерпела, будучи второй женой закоренелого волокиты. Ее жалобы произвели нечто вроде скандала, но, вопреки ожиданиям, колкие укоризны «Дневника эфемерной жизни», как стали называть эту книгу, вместо того чтобы повредить Канэиэ, скорее укрепили его репутацию дамского угодника. Тетушка впала в глубокую хандру, от которой ей удавалось избавиться лишь изредка. Пять лет она посвятила паломничеству, после чего построила себе уединенное жилище в горах и оставила писательство. Ее мнение было крайне важно для меня – настолько, что я боялась показывать ей свои рассказы.

Сперва облик Рури казался мне довольно‑таки грубым. Когда ее подруги начали чернить зубы, она не последовала их примеру. Брови тоже не выщипывала, они оставались густыми, и каждый волосок рос, как ему заблагорассудится. Я предложила подправить форму бровей, но не успела вырвать и нескольких волосков, как Рури отпрянула и на глаза у нее навернулись слезы.
– До чего ж больно! – пожаловалась она. – Не могу терпеть!
Я подумала, что мне повезло: у меня брови от природы были не такие густые, как у нее, и я почти не замечала боли. Хотя Рури и отказалась от моей помощи, сама она охотно выщипывала брови мне. Я ложилась в залитом солнцем углу комнаты, смотревшем на сад, клала голову ей на колени, и она нежно растягивала мне кожу двумя пальцами.
– Когда кожа туго натянута, не так больно, – ворковала она и серебряным пинцетом вытаскивала волосок за волоском.
За подобными занятиями могло пролететь целое утро. Я знала, что Рури не поливает духами свои платья, но само ее тело, по-видимому, источало естественное сладковатое благоухание. В навевающей дремоту жаре, лежа у девушки на коленях, я видела ее пышную грудь, почти касавшуюся моего лица. Сквозь белое летнее нательное платье просвечивали темные, как сердцевинки макового цвета, соски. Обычно Рури собирала волосы в узел на затылке, но когда я уговорила ее позволить мне расчесать их, то черный густой поток, хлынувший по плечам, заструившийся по спине и разлившийся озером у ног, ошеломил меня. Волосы на добрую ладонь превышали ее рост! Если бы какой‑нибудь молодой человек мельком увидел Рури со спины, он изнемог бы от желания прикоснуться к этим сверкающим волнам. Но если бы их обладательница обернулась, продемонстрировав сверкающие белоснежные зубы и кустистые брови, она напугала бы беднягу до полусмерти! Словом, Рури совершенно не походила на жеманницу, хотя этого вполне можно было ожидать от девушки, чья мать столько времени провела в императорском дворце.
От родительницы, в прошлом придворной дамы, Рури знала много историй о жизни императорской свиты, и ее рассказы существенно отличались от тех, что я годами слышала от отца, причем разница была ошеломительная. Мой отец подвергал каждый случай разбору с точки зрения политических последствий или, если речь шла о китайской словесности, научной строгости. Поэтому запутанные повествования Рури о соперничающих кланах благородных дам, страдающих от гордыни и безделья, поразили меня. Беседы с молодой родственницей оказались весьма полезны для меня, ведь я уже задумывалась над происхождением Гэндзи.
Некоторое время назад я стала ощущать, что написанные мною эпизоды неубедительны: основа вроде бы прочная, но по прочтении нескольких рассказов подряд легковесность становится заметной. Гэндзи нуждался в прошлом, которое придало бы его приключениям достоверность. Я намеревалась собрать все рассказы и несколько переделать, предпослав им новое начало: историю появления Гэндзи на свет.
Было ясно, что персонаж должен быть принцем царских кровей, но не наследником, иначе высокое положение ограничит его в действиях. Кроме того, читатели могли подумать, будто я описываю определенного вельможу, что повлекло бы за собой всяческие недоразумения. И я решила сделать своего героя сыном неназванного императора давних времен, воссоздав картину придворной жизни, почерпнутую из бабушкиных рассказов о годах правления императора Мураками.
Девушки, голова у которых забита любовными историями, вполне могут считать завидным удел возлюбленной императора. Ни в одной из прочитанных или услышанных мною историй никто ни на миг не задумался о том, какой бедой это способно обернуться. Я изобразила матушку Гэндзи совершенством во всех отношениях, за исключением одного: она была красива, изысканна, наделена грацией и чувствительностью – но не высоким происхождением. И все же император предпочитал ее прочим наложницам, так что его даже сравнивали с китайским императором Сюаньцзуном, до безумия влюбленным в прекрасную Ян Гуйфэй [25].
В китайской истории одурманенный любовью повелитель пренебрег государственными обязанностями, и в конце концов армия пригрозила взбунтоваться, если он не прикажет умертвить Гуйфэй. Сюаньцзун со слезами подчинился, и красавицу задушили шелковой веревкой. Рури пришла в ужас, когда я прочла ей эту балладу.
– Китайцы – варвары! – воскликнула она. – В нашей просвещенной стране такого никогда не случится!
Тогда я спросила у Рури, как могли обходиться с возлюбленной императора при нашем дворе, и она заверила меня, что той пришлось бы несладко. От своей матери Рури слыхала историю о придворной даме скромного ранга, которую как‑то ночью вызвали из ее покоев в спальню императора. Тем самым бедняжка возбудила ревность более высокопоставленных наложниц, которые замыслили сделать ее жизнь невыносимой. Однажды ночью они велели прислужницам запереть несчастную в переходе, соединявшем ее комнату с императорской спальней. На рассвете ее обнаружили там рыдающей от унижения. В другой раз негодяйки приказали разбросать по перекидным мостикам и переходам собачий помет и отбросы, чтобы испачкать подолы служанок соперницы, которые там проходили.
– Представь, что тебя всюду, куда бы ты ни направилась, неотступно преследует зловоние, а потом выясняется, что всему виной собачий кал, измазавший подол платья! Что может быть омерзительнее?
Мы поморщились, и я включила этот эпизод в повествование. В моей истории чувствительная дама тоже подверглась унизительной травле, столь коварной, что ее не мог предотвратить даже сам император, и наложница начала чахнуть.
Рури предложила сделать мать Гэндзи хозяйкой Павильона павловний – Кирицубо. Каждой императорской наложнице были отведены отдельные покои, и павильон Кирицубо располагался дальше всего от Дворца чистой прохлады, где проживал император. Это позволяло другим дамам изводить соперницу, когда она шла по переходам, вызванная к императору. Положение не улучшилось, даже когда император переселил свою любимицу в павильон, расположенный прямо напротив дворца, ведь госпожа Кирицубо навлекла на себя ненависть женщины, жившей там прежде. Если бы император больше всех любил главную наложницу, а остальные дамы удостаивались равного внимания, таких трудностей не возникло бы. Однако, как заметила Рури, придворная жизнь таит в себе постоянное противоречие между желаемым и действительным. Кроме того, дама из павильона Кирицубо по происхождению не имела политических преимуществ, что делало страсть императора к ней еще более возмутительной.
Гэндзи, решила я, должен быть драгоценным чадом, рожденным от любимой наложницы и потому обожаемым отцом-императором. Но ребенок наследует изъян матери. Будь мир справедлив, она стала бы императрицей, однако ей не суждено возвыситься. И Гэндзи тоже не станет наследным принцем. В обычной сказке это затруднение в конце обязательно разрешилось бы, но мне требовалось другое: чтобы оживить повествование, в Гэндзи должна присутствовать некая ущербность, а в его положении – определенная шаткость. Идеальные люди довольно скучны. Когда я поведала Рури о своих замыслах относительно детства Гэндзи, она долго и вежливо слушала, а затем обронила странное замечание:
– Сдается мне, этот твой герой, Гэндзи, – на самом деле ты сама. Сколько ни приводи причин, думаю, ты потому изображаешь его лишившимся матери, что в глубине души рассматриваешь сиротство Гэндзи как некое беспрестанно вертящееся темное колесо. Или твоего принца можно сравнить с селезнем, который будто бы без усилий скользит по водной поверхности, но под водой бешено работает лапками.
Заявление Рури застало меня врасплох. Вероятно, она имела в виду, что и я подобна тому селезню. Подозреваю, что окружающие считали меня уравновешенной, застенчивой и весьма скучной девицей, которая сторонится людей и не блещет в разговоре. Однако Рури распознала во мне глубины, которых не замечали другие. Я часто задавалась вопросом, что побуждает меня писать о Гэндзи. Безусловно, жизнь моя была бы проще, не будь я одержима приключениями вымышленного героя. Рури разглядела во мне нечто, о чем я сама пока лишь смутно догадывалась: то самое темное колесо, безостановочно вращающееся в моем беспокойном сознании. Порой мне хотелось просто прогуляться по саду, выкинув из головы вездесущего Гэндзи, рассуждающего о растениях.
Задушевная дружба с Рури пошла мне на пользу. Она была немногословна, но обладала здравым смыслом. Как только я высказывала ей вслух свои сбивчивые суждения, мысли у меня тотчас прояснялись. Думаю, Рури стала бы идеальной женой. Но замужество привлекало ее не больше моего, а любовные игры, учитывая ее неженственный облик и манеры, интересовали мою новую подругу и того меньше.
Зато Рури с поразительной тонкостью воспринимала природные явления. Особенно ей нравились бабочки, и она отгородила часть сада для выращивания найденных ею гусениц. Кухарка никак не могла взять в толк, почему нельзя очищать редис и капусту, растущие в огороде Рури, от крошечных бледно-зеленых червячков, которых обычно снимают и давят. Рури объясняла ей, что эти существа превращаются в прекрасных белых бабочек с черными кончиками передних крыльев и ярко-желтыми задними крылышками. Мне это было известно, но я не знала, что у самцов данного вида на теле есть темно-желтое пятнышко, источающее цитрусовый аромат.
– Благоуханные, как твой игривый принц, – шутила Рури. В одной из историй я изобразила Гэндзи мастером по составлению благовоний. Аромат, испускаемый его одеяниями, даже в темноте сообщал о его присутствии.
Когда гусеницы стали сооружать себе маленькие хижины для превращения, Рури собрала их в клетку на открытой галерее, чтобы иметь возможность наблюдать за рождением бабочек. У нас надолго зарядили дожди, после чего небо прояснилось, и из коконов сразу выползли несколько бабочек. Умеют ли куколки чувствовать погоду? Выбираться из кокона в дождь было бы крайне неразумно. Так или иначе, вылезти наружу им оказалось непросто. Мы уже понимали, что наши питомицы готовы к выходу, поскольку коричневые коконы с золотыми крапинками поблекли, явив взору очертания головок и крыльев. Однако, чтобы вырваться на свободу, бабочкам пришлось прогрызать прозрачную оболочку и неистово дергать крылышками. Как же прекрасны были их глаза, напоминающие драгоценные самоцветы!
– Смотри, какую красоту мы не замечаем, наблюдая, как бабочки порхают по саду, и любуясь только их крыльями, – сказала Рури.
Мы постоянно обсуждали смену времен года. Я переписала для подруги китайский календарь с семьюдесятью двумя пятидневками, и ее, столь восприимчивую к природным изменениям, восхитила приметливость китайцев.
Началось двухнеделье, именуемое «Великим зноем», первая пятидневка которого называется «Сгнившие сорняки превращаются в светляков». Я не удивилась, узнав, что ловля светлячков – одно из любимых занятий Рури, а лето – ее любимое время года.
– Жаль, что здесь, в горах, нет светлячков, – сетовала подруга.
Кажется, светлячки населяют лесные опушки или заболоченные берега водоемов. Тут, в горах, мы были гораздо ближе к природе, чем в Мияко, но нежные светлячки, судя по всему, предпочитали более безопасное городское окружение.
Однажды Рури подшутила над своей старшей сестрой, когда та принимала жениха. Дело у этих двоих уже шло на лад, но, разумеется, мужчине еще не дозволялось хоть мельком увидеть лицо избранницы [26]. Как‑то безлунным летним вечером он наведался к ним, а Рури внезапно выпустила в комнату сестры огромное количество светлячков, осветив ее изумленное лицо.
– Поженившись, они смеялись над тем случаем, – Рури улыбнулась, – но поначалу сестра не на шутку рассердилась.
Я поведала Рури о том, что разрабатываю теорию природных явлений, олицетворяющих различные сезоны, и она предложила свою помощь. Мы составили список событий, соотносимых с тем или иным сезоном, а затем сравнили их с классическими образами из старинных повестей и императорских поэтических антологий. Моя подруга досадовала, что классические произведения пренебрегают летом, уделяя куда больше внимания весне и особенно осени. Конечно, принято превозносить осень по сравнению с другими временам года, но, когда Рури спросила о моих предпочтениях, я выбрала весну.
Впрочем, поскольку стоял разгар лета, наши списки начинались именно с него. Мы были единодушны в том, что суть лета олицетворяют светлячки. Затем Рури высказалась в пользу бабочек: хотя некоторые из них появляются весной, наибольшее изобилие наблюдается летом, осенью же они пропадают. Я была склонна с ней согласиться, хотя бабочки отчего‑то казались мне несколько вульгарными. До знакомства с Рури я была знакома с бабочками преимущественно по китайским изображениям на ширмах, где их представляли порхающими среди пионов.
Вообще, заметила я Рури, насекомые ассоциируются скорее со звуками, которые они издают, поэтому их принято отождествлять с осенью.
– А цикады? – возразила моя собеседница.
Как я могла забыть? При одной мысли об оглушительном стрекоте цикад на память мне пришла изнуряющая летняя жара в Мияко. Над окруженным горами городом, точно над чашей с водой, висела постоянная влажность. Нобунори любил поймать цикаду, обвязать ее тельце ниткой и пустить с жужжанием летать у него над головой, а потом снова притянуть к себе. Омерзительное было зрелище.
Мы стали рассуждать о дожде. Его было трудно оставить без внимания, ибо лето выдалось сырое (отчего мы и проводили так много времени за составлением списков). Мы решили, что летний дождь – это внезапно разразившийся ливень, надвинувшаяся черная туча, которая с шумом обрушивается на землю, изрыгая гром и молнии, и тотчас стихает, подобно вспышке гнева. А также проливные дожди пятого месяца, когда начинают созревать сливы, меняя цвет с зеленого на красный, и воздух пропитывается теплой сыростью, разрушающей стены.
Но дожди бывают не только летом. Осенью случаются сильные бури, когда внезапно холодает и обезумевший ветер играет косыми струями. Заунывные, мрачные ливни конца осени постепенно становятся ледяными. Однако для меня подлинное воплощение этого природного явления – затяжные весенние дожди. Даже когда я просто произношу это словосочетание, перед мысленным взором тотчас возникает туманный, беззвучный нитеобразный дождик, который беспрестанно сеет, пока прогревается весенняя земля. Открываешь окно и в вялой, беспросветной тоске глазеешь на мглистый сад. Все эти ощущения заключены всего лишь в одной фразе: «затяжные дожди».
Рури полагала, что роса должна олицетворять лето, но я, в согласии с общепринятым мнением, считала ее скорее осенним признаком. То же самое касалось и молний. Хотя мы порой наблюдаем молнии и летом, их неистовство напоминает мне об осени. В качестве летних растений мы избрали древовидный пион, павловнию, бамбук, гвоздику, ирис, чубушник и «вечерний лик» [27]. Уступая страстному настоянию Рури, я добавила рис, хотя в моем сердце он не находил особого поэтического отклика. Из птиц мы смогли предложить только пастушка [28] и кукушку. Мы решили, что некоторые природные явления – например, луна, ветер, вечер – выдаются за границы отдельных сезонов. Они по-разному проявляют себя на протяжении всего года. Типичная весенняя луна – это подернутый дымкой полумесяц, летняя – округлый бледный плод мушмулы над рассветными западными холмами, осенняя – чистая, яркая «урожайная луна», зимняя же – холодное, блистающее светило в преддверии полнолуния.
Мы долго спорили о «летней шкуре»: так именуют шкуру молодого оленя, которая в конце лета приобретает золотисто-коричневый оттенок и на ней отчетливо проступают пятна. Именно из летнего оленьего меха получаются лучшие кисти для письма. По мнению Рури, летняя шкура, бесспорно, олицетворяет лето, что видно из самогó ее названия. Но, возражала я, это не придает ей поэтичности. Еще менее шкура связана с природными явлениями и человеческими чувствами – если не считать жалости к оленю, убитому стрелой охотника в летнюю пору лишь ради изысканного меха.
В каком‑то смысле лето, с которого мы начали, было самым легким временем года. Наш список образов, олицетворяющих весну, не только оказался длиннее, но и породил множество разногласий. Благо дождь прекратился и мы смогли до поры отложить наши изыскания: осень грозила вызвать еще больше споров, чем весна.

Я прочитала Рури свою любимую поэму Бо Цзюй-и «Вечная печаль», тут же, на ходу, переводя ее. Конечно, трагическая история Ян Гуйфэй известна всем, однако немногие знают ее на китайском. Будь у нас больше времени, я научила бы Рури читать по-китайски, но лето приближалось к концу, и скоро нам предстояло возвращение в Мияко.
Бо Цзюй-и чрезвычайно занимал меня. Работая над рассказами о Гэндзи, я представила, как император разглядывает картины, иллюстрирующие «Вечную печаль», и оплакивает смерть наложницы Кирицубо. Китайский император отправил чародея навестить дух Ян Гуйфэй на заколдованном острове, и та передала через него государю золотую шпильку на память. Как бы хотелось и правителю из моей истории получить весточку от своей ушедшей возлюбленной! Рури предложила мне сочинить схожую сцену, описав, как скончавшаяся наложница Кирицубо, пребывая в раю, посылает памятную вещицу в утешение живому. Признаюсь, эта идея вызвала у меня отторжение.
Я поразилась собственному неприятию. Отчего мысль о воспроизведении этого эпизода показалась мне отвратительной? В конце концов, я восхищалась Бо Цзюй-и. Мне стало ясно, что мы с Рури по-разному понимаем эту поэму. Может, в Китае и существуют чародеи, умеющие с помощью волшебства навещать мертвых, хотя даже Конфуций говорил, что рассуждения об усопших и духах ничего не дают. Так или иначе, я не имела ни малейшего опыта в подобных вещах и была уверена, что в нашей стране чародеи встречаются разве только в сказках. Я не считала свои рассказы о Гэндзи сказками, поэтому мне и в голову не приходило использовать в них волшебные мотивы. Сама мысль об этом резко противоречила здравому смыслу. Я была удивлена, что Рури вообще могла вообразить подобную сцену, и у меня возникло тягостное ощущение, что я превратно судила о ней.