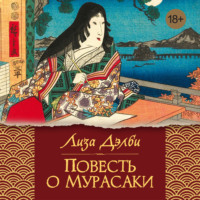Полная версия
Повесть о Мурасаки
Несколько дней спустя пришел сокрушенный ответ Тифуру, но к тому времени я уже смирилась с потерей. В конце концов, разве у слабых кленовых листьев есть выбор? Вот ее пятистишие:
Алые листья,Бури соблазны отвергнув,Страстно желалиПокой свой под кленом найти,Вдаль не срываясь с ветрами.Если бы Тифуру была вольна следовать своим желаниям, она осталась бы в Мияко и попыталась попасть ко двору.
Однако, когда моя ревность немного унялась, я осознала, что уже не совсем одинока. Теперь у меня был Гэндзи.
«Утренний лик»[18]

После того как Тифуру вышла замуж, я перестала сочинять рассказы о Гэндзи для нее и отныне записывала их уже для себя. Следующим летом я решила почитать кое‑какие отрывки своей бабушке, которая начала терять зрение. Ее удручало, что она уже не может рассматривать свои любимые свитки с картинками, и мне пришло в голову, что старушка, пожалуй, порадуется, если я прочту ей что‑нибудь новенькое. Я решила прихватить с собой пять или шесть сочиненных к той поре историй, даже не потрудившись переписать их, поскольку бабушка не могла видеть мои каракули. Помню, что вместе с бумагами собиралась взять корзину груш из нашего сада и блюдо жареных китайских пельменей. Когда я уже была готова отправиться в путь, выяснилось, что гороскоп не велит сегодня ехать в юго-восточном направлении. Занятая мыслями о Гэндзи, я по глупости забыла накануне проверить запретные направления[19]. Пельмени могли испортиться, поэтому их получила Такако. А новых груш всегда можно было нарвать в саду.
Бабушка любила старинные истории. Когда мы воспитывались в ее доме, она пересказывала мне известные и малоизвестные легенды, а также их бесчисленные версии. Матушка обычно возилась с малюткой братом, и я ускользала к бабушке. Она закутывала меня в одно из своих старых шелковых платьев, сажала рядом с собой, и из ее уст в мои жадные уши без перерыва, одна за другой, лились сказки. К пяти годам я уже умела изображать бессердечных принцесс из «Сказания о рубщике бамбука» или «Повести о Дупле»[20] и выдумывать непомерные требования к воображаемым женихам. А еще бабушка рассказывала мне о жизни в окружении блистательного императора Мураками – позднее я поняла, что эти сведения она могла почерпнуть лишь из вторых рук, поскольку при дворе никогда не бывала.
С того лета, как мне исполнилось девятнадцать, мы поменялись ролями: начав читать бабушке свои записи о Гэндзи, сказительницей стала я. После первой же истории старушка заявила, что Гэндзи напоминает ей Нарихиру, героя «Повести Исэ». Кроме того, она сочла, что в моих рассказах маловато поэзии.
– Странно, – заметила бабушка, – что твой Гэндзи не слишком лиричен. Однако я ловлю себя на том, что твое повествование захватило меня, и теперь мне интересно, что с твоим юношей случится дальше. Ты, дорогая Фудзи, рисуешь историю как художник, но не картинками, а словами. Наверное, это всё ради моих старых глаз. В последнее время мне чудится, будто их заволакивает темная пелена.
Я вовсе не пыталась сознательно заменить словами картинки, но бабушка выразилась удачно, ведь художник из меня никудышный. Вместо того чтобы впустую изводить бумагу, стараясь нарисовать принца Гэндзи, я предпочитала, чтобы Тифуру и бабушка воображали его таким, как им хочется. Весьма скоро обнаружилось, что принц в моем и в бабушкином представлении – отнюдь не одно и то же. И у Тифуру образ идеального возлюбленного был иным, нежели у меня. Бабушка же всегда считала Гэндзи кем‑то вроде Нарихиры.
– Не пренебрегай стихами, дорогая, – внушала она. – Побольше поэзии.
Я попробовала наводнить текст пятистишиями, но вышло неудачно. Из-за переизбыткавака повествование рассыпа́лось. На мой взгляд, любимая бабушкина «Повесть Исэ» – в действительности не что иное, как сборник стихотворений, объединенных непрочной сюжетной нитью. Я осознала это, когда попыталась создать сцену с помощью стихов, вместо того чтобы просто воспроизвести поэтическое восприятие персонажем происходящих событий.
Изначально, знакомя со своими историями бабушку, я хотела оказать ей услугу, но обнаружила, что само чтение вслух помогает мне в сочинительстве. Дом отца огласился криками младенца, поэтому я зачастила к бабушке. Когда у меня была готова для нее новая история, послушать меня являлась, захватив с собой шитье, и моя двоюродная сестра, жившая с бабушкой. Даже служанки находили разные предлоги, чтобы заглянуть к нам, например приносили рисовые лепешки, сласти или еще что‑нибудь, и оставались. Сначала я смущалась, ибо воображала, что выставляю себя напоказ, но вскоре научилась относиться к Гэндзи более отстраненно. Конечно, принц – порождение моего ума, но он ведь не я. Со временем герой обрел самостоятельность, и я чувствовала, что поступки персонажа обусловлены его личной кармой, а не моей. Это тоже мне помогало.
В то лето я была так поглощена мыслями о Гэндзи, что практически перестала тревожиться о себе. Однако отец не забывал про спрятанный в его саду спелый плод, который вот-вот перезреет. Как будто по случайному стечению обстоятельств, в ту пору, когда наступила жара и все бродили по дому, еле передвигая ноги, на пороге возник начальник отряда императорских лучников. Он сообщил, что путешествует, однако вынужден остановиться в нашем квартале на одну ночь в силу запрета, предписанного гороскопом. Этот человек мог выбрать один из соседних домов, но явился именно к нам. Я не придала его визиту особого значения, предположив, что военачальнику известно о талантах моего отца как поэта, пишущего на китайском языке. Вероятно, гость решил, что будет интересно выпить с близким по духу человеком и сочинить несколько китайских стихотворений.
Было так душно, что все двери, ведущие из кабинета в сад, распахнули настежь, чтобы заманить с реки вечерний ветерок. Я, сидя в своей спаленке по соседству с кабинетом, слышала, как отец и его гость смеются и декламируют стихи. Еще до восхода луны отец удалился к себе, в новый флигель, а молодой человек продолжал расхаживать по кабинету, где ему постелили, и бормотать себе под нос: до меня донеслось нечто похожее на строфы Бо Цзюй-и[21].
Вскоре после этого в стену, отделяющую кабинет от моей комнатушки, постучали. Нетрудно было догадаться, что начальник лучников слегка захмелел, и он явно знал, что у хозяина дома есть дочери. Глупая мысль заставила мое сердце биться сильнее: до чего же похоже на эпизод из «Гэндзи»! В подобных обстоятельствах молодой человек, особенно побывавший при дворе, обязательно попытался бы познакомиться с молодой женщиной. Хотя я десятки раз представляла себе сцены вроде этой, в действительности такого со мной никогда не случалось. Однако из-за того же «Гэндзи» происходящее казалось до странности знакомым. Я приблизилась к галерее и увидела, что гость сидит на краю помоста, небрежно свесив одну ногу над папоротниками. Надеясь, что голос не охрип от волнения, я процитировала несколько строк из того самого стихотворения, которое военный, как мне послышалось, декламировал недавно. Я едва ли была способна собраться с мыслями и придумать, что делать дальше. Наверное, мне взбрело в голову, что молодой человек ответит мне другим стихотворением, после чего между нами, быть может, завяжется беседа. Но к дальнейшему развитию событий я определенно не была готова.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Японский лимон, плод одноименного растения рода цитрусовых. –Здесь и далее примеч. пер.
2
Письменная принадлежность, камень (или подставка из других материалов) для растирания бруска туши и смешивания ее с водой.
3
Один из самых древних и почитаемых буддийских текстов.
4
Будда Амида (Амитабха) – владыка Западного рая (Чистой земли), особо почитавшийся в древней Японии.
5
«Кагэро-никки» – «Дневник эфемерной жизни» (в других переводах «Дневник летучей паутинки» или «Дневник подёнки») – произведение в жанреникки (лирического дневника, как правило женского), созданное в конце Х века писательницей, известной под именем Матери Митицуна (Митицуна-но хаха), второй женой регента Фудзивары Канэиэ, который принадлежал к тому же разветвленному клану, что и автор «Повести о Гэндзи».
6
В эпоху Хэйан (794–1185), к которой относятся описываемые события, в Японии тела умерших сжигали по ночам.
7
Японское название аира, травянистого растения, произрастающего в заболоченных местах.
8
Миниатюрный пейзаж на подносе, созданный с использованием гальки, песка, живых и засушенных растений.
9
Столица (яп.), старинное наименование Киото, который во времена Мурасаки официально назывался Хэйан-кё. – Примеч. авт.
10
«Кокинвакасю», или «Кокинсю» («Собрание старых и новых пятистиший») – антология японской поэзии периода Хэйан, составленная около 905 года.
11
Японское пятистрочное стихотворениевака состоит из 31 слога (5+7+5+7+7). Более позднее трехстишие хайку – по сути, усеченное до 17 слогов вака (5+7+5). – Примеч. авт.
12
Дорожная соломенная шляпа с широкими, опушенными книзу полями, к которым со всех сторон прикреплена длинная вуаль.
13
Кутинаси (то есть «безмолвной») гардению называли за то, что ее узкие, ребристые красные плоды раскрываются, только когда полностью высохнут. – Примеч. авт.
14
«Юэ лин» – китайский текст I века до н. э. –Примеч. авт.
15
Речь идет о состязании в стихосложении на заданные рифмы.
16
Имеется в виду решетка, которая отделяла внутренние покои от окружающей дом галереи, служа чем‑то вроде внешней стены (на случай дождя и холодов существовали также деревянные двери). На ночь решетка опускалась, а днем поднималась (либо решетка состояла из двух частей и поднималась только верхняя половина).
17
Японское название пуэрарии, лианообразного растения семейства бобовых.
18
«Утренний лик» (асагао) – японское название ипомеи, растения семейства вьюнковых, цветы которого раскрываются утром и к вечеру увядают.
19
Мир Мурасаки был населен призраками и духами из нижних миров, а также божествамиками. Считалось, что ками регулярно меняют местожительство, так что людям следует соблюдать осторожность при передвижениях и сообразовываться с системой запретов, не дозволявшей путешествовать в том же направлении, что и влиятельный ками. – Примеч. авт.
20
«Сказание о рубщике бамбука» («Повесть о старике Такэтори»), «Повесть о дупле», а также упоминаемая ниже «Повесть Исэ» – произведения Хэйанской эпохи, относящиеся к концу IX – Х веку и написанные в жанремоногатари (повествования), к которому принадлежит и «Повесть о Гэндзи».
21
Бо Цзюй-и (772–846) – китайский поэт эпохи Тан.