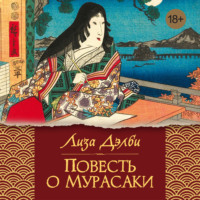Полная версия
Повесть о Мурасаки
Мне был прекрасно знаком каждый уголок в доме, включая кабинет, ибо отец всегда говорил, что я могу свободно пользоваться его книгами и бумагами, и я ловила его на слове. Случайно наткнувшись на его черновики с набросками любовных стихов, я поняла, что по меньшей мере один раз ему отказали. Само собой, он никогда не обсуждал с нами свои романы, но, когда договоренность была достигнута, я не удивилась.
Прошло три года с тех пор, как умерла матушка. Отцу шел сорок четвертый год, но он был еще мужчина хоть куда. Никого не удивляло, что он взял другую жену. Многие мужчины имели сразу несколько жен и не представляли себе жизни без женской заботы. Некоторые не могли даже одеться без помощи супруги, всецело полагаясь на нее в подборе правильного сочетания оттенков и поисках чистого нательного платья. Моего же отца отличала необычайная самостоятельность. Его друзьям с трудом верилось, что все эти годы он обходился без госпожи в доме. Однако было бы неблагоразумно рассчитывать, что я буду и дальше вести хозяйство.
Меня тронуло, что отец явно беспокоился о чувствах своих детей. Я хорошо его понимала, и уж по крайней мере меня он мог не извещать о своей женитьбе столь официальным тоном. Тем не менее это объявление знаменовало собой грядущие перемены, и я подозревала, что прежде всего они коснутся меня. В отличие от предыдущего брака, когда отец по договоренности переехал в дом матушкиных родителей, где родились и выросли мы, их дети, на сей раз, наоборот, невесте предстояло переселиться в нашу официальную резиденцию.
Ныне принято, чтобы молодая жена покидала родительский кров и переезжала с мужем в новый дом, однако в то время подобная будущность казалась мне ужасной. Доведись мне тогда выйти замуж, я предпочла бы остаться в доме отца, чтобы муж посещал меня там. Мысль о том, чтобы расстаться с родными и поселиться с незнакомцем в чужом месте, страшила меня. И потому, несмотря на все мои тревоги, мне было жаль невесту отца.
Отец, к его чести, постарался создать все условия для семейного благополучия. Он пристроил к дому еще один флигель, чтобы как можно меньше нарушать наш покой. Моя старшая сестра Такако удостоилась такой роскоши, как водворение в прежней отцовской спальне с видом на реку, поскольку ему самому предстояло переселиться в новый флигель. Я осталась в своей уютной полутемной комнате рядом с кабинетом отца, с окнами на пруд в саду, зато получила набор переносных перегородок и подушек. Нобунори обижался на Такако, которой досталось больше, чем ему, упрямо отказываясь признавать, что отец балует старшую дочь из-за ее скудоумия.
Главнейшей отрадой Такако было чревоугодие; она постоянно выпрашивала у служанок лакомства. И так любила фасоль в сладком винном сиропе, что всякий раз, когда кухарка готовила это блюдо, оно исчезало прежде, чем его успевали отведать другие члены семьи. Бедняжка была непомерно толста, зато добра и великодушна ко всем – за исключением Нобунори. Брату нравилось изводить ее, и в его присутствии Такако всегда была начеку. Завидев Нобу, она сразу хмурилась, так что глаза ее превращались в узкие щелочки: сестренка совершенно не умела скрывать свои чувства. Разумеется, у Такако не было никаких шансов выйти замуж.
Брат завидовал привязанности, которую выказывал к Такако отец. Нобунори обращался с ней очень сурово. Мне вечно приходилось вставать между братом и сестрой, чтобы установить мир. Одной из причин, по которым отец отдал Такако комнату с видом на реку, было желание развести детей на некоторое расстояние. Нобунори присоединил прежнюю комнату Такако к своей, располагавшейся рядом с кабинетом отца, заполучив, таким образом, побольше места для хранения своих разнообразных коллекций. Единственное, о чем попросила я, – это чтобы после свадьбы новой жене отца не было доступа в его кабинет.

Моя мачеха, хоть и тремя годами старше меня, была кротка, как безмолвная гардения. Про себя я звала ее Кутинаси[13]. Хотя ее отец интересовался китайской словесностью, сама она литературными способностями не обладала и уединенно жила в новопостроенном флигеле. Я же бо́льшую часть времени проводила в кабинете, откуда любовалась увядающими хризантемами в саду.
Я размышляла о том, что сезоны сменяют друг друга, однако сами остаются неизменными, тогда как люди безвозвратно минуют весну своей юности, чтобы никогда не пережить ее снова. Меня пугала мысль о том, что, быть может, скоро мне самой придется покинуть отчий дом. Тифуру, как сорванный ветром осенний листок, уже унесло на чужбину. Могу ли избежать подобной участи я? Пусть даже мое замужество откладывалось, меня все равно каждый день терзала тоска по подруге. Я смирилась с тем, что мне никогда не представится возможность попасть ко двору. Когда‑то отец занимал должность в Церемониальном ведомстве, что могло бы мне пособить, однако после отречения императора Кадзана ему пришлось уйти в отставку. Он сумел найти философское утешение в китайской словесности, а ныне я сама в поисках духовного руководства обратилась к этим сочинениям. Я была убеждена, что ключ к тайнам жизни можно обрести в соотнесении наших душевных устремлений с природой.
Я нашла древнекитайский календарь «Помесячные предписания»[14] и изучила предсказания китайских мудрецов. Они изображали год в виде бамбукового ствола, состоящего из колен, перемежающихся узлами: каждое сочленение колена с узлом представляло один месяц, а название каждой части сочленения отражало изменения в природе. Когда я созерцала хризантемы в саду, как раз начался двухнедельный сезон («узел») под названием «Холодные росы». В нашем календаре используется такое же деление, однако у древних китайцев я обнаружила еще более тонкие различия. Каждое колено у них, в свою очередь, дробилось на три пятидневных отрезка. Всего в году таких отрезков насчитывалось семьдесят два. Я решила, что, благодаря столь подробному описанию сезонных изменений, китайцы, вероятно, владеют ключом к пониманию связи между человеческими переживаниями и природой, и потому ежедневно уделяла время тому, чтобы точно установить, какой нынче сезон.
Выяснилось, что двухнедельные «Холодные росы» начинаются с пятидневки «В гости прилетают дикие гуси», за ними следуют пять дней под названием «Воробьи ныряют в воду, превращаясь в моллюсков», а затем «Хризантемы желтеют»: именно это явление мне и довелось наблюдать в нашем саду. Двенадцать месяцев делились на четыре времени года, каждый месяц членился подобно бамбуковому стволу, а каждое колено ствола, в свой черед, разбивалось на пятидневки. Я восхищалась наблюдательностью китайцев.
Теперь модно хулить все китайское за безвкусицу и вычурность, но я никогда не разделяла подобного мнения. Чем больше я узнавала о китайской словесности, тем почтительнее к ней относилась. В конце концов, если бы не китайская письменность, возможно, мы никогда не смогли бы писать на своем родном японском языке. Но вместе с тем я начала ощущать, что китайский взгляд на вещи разительно отличается от нашего. При всей своей премудрости язык Поднебесной таинственен и в то же время предельно точен.
Упорядоченность старинного календаря привлекала меня. Отображенные в нем явления природы были подобны аккуратной нити с семьюдесятью двумя бусинами, равномерно распределенными между двадцатью четырьмя коленами бамбукового ствола. Их названия пленяли, однако и озадачивали: как воробьи могут превратиться в моллюсков? При этом заглавиям была присуща несколько простоватая поэтичность, хотя в конечном счете я так и не смогла обнаружить искомой связи. Китайский календарь предоставлял отличную возможность следовать природе – но только умом, а не сердцем.
Я пришла к выводу, что бывают моменты, когда наше сердце с особой чуткостью воспринимает какое‑нибудь природное явление. Если осенью за оголенным деревом сквозит садящееся солнце, рдяное небо отзывается у нас в душе одиноким великолепием умирающей красоты. Вот почему поэт обращается к образу заката, чтобы запечатлеть в своем стихотворении осенний период: закат – суть осени. У каждого времени года свои образы, которые передают его суть, отражаемую поэтическим восприятием.
Я начала составлять список природных явлений, олицетворяющих различные сезоны.

После женитьбы отца я, должно быть, замкнулась в себе, поскольку кое-кто обвинил меня во врожденной унылости. Я удивилась и сочла упрек совершенно несправедливым. Конечно, мне не присуще притворное зубоскальство, возможно, именно поэтому на меня решили навесить ярлык меланхолика, но, скажем, с Тифуру я излучала жизнерадостность и могла болтать без умолку. И я поняла, что по природе грусть мне не свойственна, лишь обстоятельства сделали меня такой. Бабушка предостерегала: задумчивость женихов не привлекает. «Старайся держаться чуть веселее», – наставляла она.
Однако, рассуждала я, если мужчина женится на мне, введенный в заблуждение притворной общительностью, тем сильнее он будет разочарован, обнаружив у меня тягу к серьезности. Ведь существуют же достойные женихи, способные разглядеть не только поверхностную светскость? Мне исполнилось восемнадцать лет. Большинство моих подруг уже вышли замуж или обзавелись достойными воздыхателями. Некоторые, чьи отцы занимали видное положение, поступили на придворную службу. «Девица, знающая китайский язык», получала не так уж много предложений от мужчин, если не считать одного ученика отца, человека незначительного, который, как я подозревала, отважился искать моей руки лишь потому, что счел меня полезной помощницей в учебе. Честно говоря, я радовалась, что мне не приходится отбиваться от женихов, ибо ни один из них не мог сравниться с Гэндзи, воображаемым обольстителем, придуманным мной и Тифуру.
Мы с ней обменивались письмами так часто, что гонцы едва успевали их доставлять. Когда семья подруги прибыла в Бидзэн, правитель провинции согласился взять Тифуру в жены, однако свадьба была отложена до окончания официального траура по его почившей супруге. Тифуру следовало сопроводить родных в Цукуси, а к положенному сроку вернуться в Бидзэн. Я получила от нее это стихотворение:
Терзаюсь, томлюсь,Над западным морем лунуВ тоске созерцая.Ничто мне не мило сейчас,Лишь слезы способна ронять.Подруга умоляла меня сообщать ей столичные новости, и мои письма были полны сплетен, полученных от знакомых, служивших при дворе. Я ответила на стихи Тифуру:
Луну обгоняя,На запад письма летят.Могу ли забытьОтправить вослед облакамЗаветную весточку другу?Тифуру постоянно пребывала в моих мыслях, особенно когда я наблюдала за изменчивой луной. В отсутствие подруги я размышляла не только о ее прозвище, Туманная Луна, но и о самой природе луны.
Луна занимательнее неизменного солнца. Безусловно, именно по этой причине ее столь часто поминают поэты – в отличие от солнца, если только речь не заходит о рассвете или закате, когда дневное светило ненадолго замирает на пороге дня. В моих мыслях Тифуру уподоблялась прекрасной луне во всех ее состояниях. Молодая трехдневная луна напоминала брови подруги. С этого момента луна превращается в дугу лука, а затем и в полный круг, который особенно великолепен, когда окутан легкой дымкой облаков. Сразу после полнолуния серебристый диск, плывущий утром по западному небу, выглядит спокойным и женственным. Это тоже вызывало в памяти Тифуру. В течение следующих нескольких ночей луна не показывается на небе все дольше и дольше, и поздняя ночь, когда она наконец восходит, кажется светлее, особенно осенью. Затем ночное светило, идя на убыль, еще сохраняет яркость: именно таким мы с Тифуру в последний раз видели его вместе. Мне было больно, когда луна приблизилась к этой фазе, ведь я думала о подруге и понимала: сколько ни жди, Туманная Луна уже никогда не появится вновь.
Моя мачеха, должно быть, тоже оказалась чувствительна к лунным фазам, потому что ежемесячные кровотечения у нее прекратились: она забеременела.

В начале зимы я последовательно перечисляла в письмах Тифуру все пятидневки по китайскому календарю. Одно из писем открывалось названием «Вода начинает замерзать», другое, через пять дней, – «Земля начинает замерзать». Приближались две недели, которые именовали «Малоснежьем». Хотя снег еще не выпал, я постоянно мерзла. «Фазаны входят в воду, превращаясь в огромных моллюсков», – вывела я, начиная очередное письмо. Но что это означает? Жутковатая метаморфоза вызвала у меня раздражение. Я осознала, что меня пугает мысль о близости Тифуру с мужчиной.
В ответном письме она попросила меня записать некоторые из сочиненных нами историй. Это была интересная задача; именно тогда я и начала переносить рассказы о Блистательном принце Гэндзи на бумагу. Первый из сюжетов был вдохновлен моими размышлениями о луне. В этой истории, написанной для Тифуру, Гэндзи встретил во дворце даму и был настолько захвачен страстью, что овладел ею, невзирая на опасность быть застигнутым. Он не знал имени этой дамы, но называл ее Обородзукиё, Ночь Туманной Луны.
Записывая рассказ о принце, я на время позабыла о своем одиночестве. Пока я трудилась над сочинением для Тифуру, Гэндзи словно бы ожил во мне и заманил меня в волшебный мир дворцов и садов. Он распахивал передо мною двери покоев, поражающих воображение. Разумеется, я хотела тотчас отправить написанное Тифуру, но всякий раз, когда мне казалось, что рассказ закончен, случалось нечто любопытное.
Еще до того, как приключение Гэндзи удовлетворило меня, я поймала себя на том, что пишу в обратном порядке. Я начала с того, что принц встретил в покоях императрицы таинственную девушку, но затем мне пришлось придумать причину, по которой он там очутился, поэтому я вернулась к описанию лунной ночи, которая пробудила в принце любовные желания. Потом я решила, что дело должно происходить весной, а не осенью, ведь, согласно поэтическим правилам, луна в облачной дымке – весенняя тема. Я описала похищение девушки, совершенное Гэндзи, но когда перечитала написанное, то поняла, что мой герой выглядит негодяем: он как будто просто надругался над незнакомкой, а она позволила ему это лишь потому, что он – Гэндзи. Пришлось отвлечься от повествования о лунном свете, вернуться к началу и попытаться объяснить, благодаря каким качествам Гэндзи мог запросто обратиться к любой женщине и уговорить ее отдаться ему.
Я беспокоилась, достаточно ли убедительно изложила сюжет. Разумеется, истории, которые мы сочиняли, были чистой воды вымыслом, однако я считала, что они должны выглядеть правдоподобными. Так или иначе, оказалось, что записывать историю самостоятельно – совсем не то же самое, что придумывать ее вместе с Тифуру. Это была моя первая повесть.
Ночь Туманной Луны
Приключение Блистательного принца Гэндзи

Стоял чудесный весенний день, небо было ясное, повсюду пели птицы. Поэты и принцы, ученые и придворные собрались в большом зале дворца на Праздник цветения сакуры. Император увлекался сочинением стихов в китайской манере и подобрал несколько рифм для раздачи гостям по жребию[15]. В числе присутствующих находился и Гэндзи; стали разбирать стихотворные темы, и над перешептываниями и ропотом возвысился прекрасный звучный голос принца.
– У меня «Весна», – объявил он.
Когда приступили к обсуждению порядка выступлений, никто не желал читать после Гэндзи, опасаясь по сравнению с ним предстать в невыгодном свете или вовсе осрамиться. Сочинение китайского стихотворения – не такая уж трудная задача, но даже лучшие поэты помрачнели и забеспокоились. Меж тем знаменитые ученые мужи явно горели желанием выказать свою просвещенность. Как обычно, им до такой степени недоставало чувства стиля, что запоминались не сами стихи, а лишь ничтожество их сочинителей. Приближаясь к персоне государя, мудрецы вели себя столь скованно и неуклюже, что император не мог удержаться от улыбки.
Гэндзи выделялся даже в толпе изысканных придворных. В свои восемнадцать лет он пленял юношеской красотой, наряд его был безупречен, однако окружающих привлекала прежде всего спокойная уверенность принца в себе. Во всем, начиная со свободного владения китайским литературным языком (когда Гэндзи ссылался на какого‑нибудь китайского поэта, это не выглядело зазнайством) и заканчивая манерой пить хмельное, принц демонстрировал отточенное мастерство. Гэндзи не отказывался от вина, но, когда его тонкое, бледное лицо заливалось привлекательным румянцем, прекращал возлияния. И никогда не позволял себе напиваться до состояния умиленной слезливости или отупения, в котором к концу вечера пребывали многие гости.
Однако поэзия служила лишь прологом к главному событию празднества. По сему случаю сам государь приложил немало усилий, составляя музыкальную и танцевальную программы. Череда превосходных выступлений завершилась в сумерках прекрасным исполнением «Весеннего соловья». Поскольку Гэндзи принимал участие в танцах минувшей осенью, официально его не включали в программу, но воспоминание о появлении юноши среди кленовых листьев было настолько упоительным, что казалось вполне естественным попросить его станцевать снова. Гэндзи застенчиво отнекивался, пока сам наследный принц, вручив ему ветку цветущей сакуры, не обратился с этой просьбой. Гэндзи встал и неспешно приступил к исполнению плавной части «Танца волн». Беспокойная суета в толпе немедленно прекратилась.
Его короткое выступление было восхитительным. В сравнении с непринужденной ловкостью Гэндзи, танцевавшего без всякой подготовки, совершенство предыдущих исполнителей теперь казалось неестественным. Свежесть Гэндзи, по мнению некоторых, лишь испортила удовольствие от танцев, виденных до этого и поначалу пленивших зрителей. Если бы не истинная скромность нашего принца, он, несомненно, вызвал бы неприязнь.
После Гэндзи выступило еще несколько танцоров, но внимание присутствующих уже начало привлекать застолье. Праздник продолжался до глубокой ночи. Люди постепенно расходились, наконец удалились императрица и наследный принц. После этого большинство оставшихся тоже отбыли. Поздно взошедшая луна только сейчас засияла в полную силу. Гэндзи, одинокий и неприкаянный, чувствовал, что такая луна заслуживает должного к ней отношения. Он побрел к дворцу, смутно рисуя в воображении даму, придерживающуюся подобного же мнения, которая лежит без сна в холодном лунном свете, льющемся сквозь решетку[16] на ее одеяния, и вздыхает.
Принц проскользнул в галерею, ведущую на женскую половину. В тот вечер императрица осталась у государя, и в ее покоях было пустынно. Однако в ярком лунном свете Гэндзи заметил, что третья дверь в галерее не заперта. Истолковав это как приглашение некой незримой дамы, молодой человек украдкой попробовал приоткрыть створку. Та легко поддалась. Ободренный, юноша перешагнул через ограждение, вошел в главный зал и заглянул сквозь занавеси в общую спальню. Повсюду виднелись распростертые тела и островки разноцветных шелковых одеяний. Казалось, все спали. Гэндзи задумался, что делать дальше, но тут до его слуха донесся тихий голос. Он был столь нежен, что явно не мог принадлежать простой прислужнице. И Гэндзи различил стихотворные строки:
В туманной дымке луна —С нею ничто не сравнится…К двери приблизилась женская фигура. Обрадованный Гэндзи понял, что незнакомку тоже привлек лунный свет, вызвавший бессонницу и у него. Он протянул руку, коснулся рукава незнакомки и почувствовал, как молодая женщина вздрогнула от неожиданности. Она вскричала:
– Кто это? Вы меня напугали!
– Не бойтесь, – ласково проговорил Гэндзи. – Ясно, что нас обоих привела сюда затуманенная весенняя луна.
Услышав вежливый голос, девушка немного успокоилась: вопреки ее первоначальным опасениям, ей встретился не демон ночи. Все же она робко попятилась к главному покою, и тогда принц, шагнув к красавице, одним быстрым движением подхватил ее на руки, прижал лицом к своему одеянию и вынес на галерею. Девушка негодующе вырывалась, и ее сопротивление показалось Гэндзи куда более волнующим, чем привычная уступчивость большинства дам.
– Тише, – приказал молодой человек. – Я у себя дома и привык добиваться своего.
Невинное изумление, с каким незнакомка посмотрела на Гэндзи, очаровало его.
– Но ведь здесь люди, – дрожащим голосом пролепетала она.
Гэндзи гладил ее по волосам, проводил пальцами по лицу, продолжая тихо говорить. К этому времени девушка уже узнала молодого придворного. Кричать или звать на помощь было немыслимо. Она все еще сердилась, к тому же события разворачивались слишком быстро, но ей не хотелось, чтобы Гэндзи счел ее неопытной. Его руки уже скользнули ей под платье, а принц по-прежнему негромко и нежно продолжал уговоры, так что девушка не была уверена, происходит ли все это на самом деле или ей снится необычайно яркий сон. Будь юная красавица чуть лучше осведомлена по этой части, возможно, она не поддалась бы так легко, но сейчас ее чувства пребывали в полном смятении. Много раз грезила она о том, чтобы оказаться наедине с прекрасным незнакомцем (предметом некоторых ее мечтаний бывал и сам Гэндзи), но теперь, внезапно попав в подобное положение, страшно перепугалась. Вместе с тем запах дорогих духов, которыми пользовался Гэндзи, как будто уменьшал опасность. Девушке нравилось то, что делали его руки: они рождали ощущения намного сильнее тех, какие она когда‑либо возбуждала в себе сама. Близость Гэндзи, все еще слегка хмельного после недавнего пира, яркий лунный свет и осознание того, что неожиданное приключение зашло слишком далеко, сломили сопротивление скромницы.
– Вы должны назвать мне свое имя, – заявил Гэндзи, когда галереи озарило восходящее солнце. Принцу пора было уходить, чтобы его не застали в компрометирующем положении. – Прошу вас, говорите, иначе как я напишу вам, если не знаю, кто вы?
Девушка была вне себя от тревоги, страшась, что их могут обнаружить, однако ей хватило присутствия духа тихонько продекламировать:
Если из мира,Сраженная горем, исчезну,Средь трав полевыхИмя мое выкликатьНеужели ты станешь?Несмотря на юность и боязливость, у нее глубокая натура, подумал Гэндзи. Ему нравились женщины, которые не боятся показать свою одаренность.
– Убежден, вы не пожалеете о нашей встрече, – произнес он, оглядывая съежившуюся от страха фигурку. – Пожалуйста, назовите свое имя!
Скрипнула решетка, из спальни донеслись шаги дам. Гэндзи, едва успевшему обменяться с возлюбленной веерами, пришлось спешно покинуть галерею.
Вернувшись в свои покои, принц осмотрел веер: трехчастный, вишневый, с изображением окутанной туманом луны, отражающейся в воде. Итак, Гэндзи влюбился в Ночь Туманной Луны. Ибо как еще он мог называть прекрасную незнакомку?
Я отправила «Приключение Гэндзи» Тифуру в Цукуси, но почти месяц не получала от нее ответа. До меня дошел неприятный слух, будто она вышла замуж. Разумеется, я знала, что это должно случиться, и ожидала, что Тифуру переменится, но необъяснимое молчание подруги встревожило меня. Я не знала, что и думать.
Наконец из провинции Бидзэн пришло письмо. К нему прилагалась кленовая веточка, еще не засохшая, несмотря на двухдневное путешествие. Тифуру в самом деле вышла замуж и лихорадочно размышляла, стоит ли ей еще раз посетить Мияко с новым мужем.
«Я брожу по холмам нашего горного приюта, и рукава мои промокли от обильной росы», – писала она. А дальше шло пятистишие:
На дальних холмахЗаалели, покрыты росой,Кленовые листья.Жаль, что тебе не могу показатьЯркий цвет моих рукавов.Она имела в виду, что рукава ее пропитались алыми кровавыми слезами. Я была раздосадована. Этот образ никогда мне не нравился, хотя он заимствован у китайцев: красные слезы как признак предельной искренности. Чересчур вычурное уподобление вызывает у меня прямо противоположное чувство. Если человек проплакал несколько дней и действительно намочил рукав слезами, сравнивать их с кровью нелепо.
Стихотворение заставило меня вообразить, как муж подруги сметает нашу любовь, точно ураган – кленовые листья. Но разве можно было винить в этом Тифуру? Она ничего не могла поделать. Ее саму унесло прочь из Мияко, словно осенний лист, беспомощный перед бурей. В душевном волнении я написала нижеследующие строки и быстро отправила их, обернув листок темно-синей бумагой и перевязав узловатой лозойкудзу[17]:
Сердитая буряНа дальних холмах разметаетИ алые листья,И капли искристой росы,Не оставляя следов.Однако не успела я выпустить письмо из рук, как тотчас пожалела о слишком резком ответе, хоть и была убеждена, что нашей взаимной приязни пришел конец. Что толку, если Тифуру вернется в столицу? Моя утрата необратима. Преображение подруги было столь же полным и диковинным, как превращение воробьев в моллюсков. Она стала замужней женщиной.