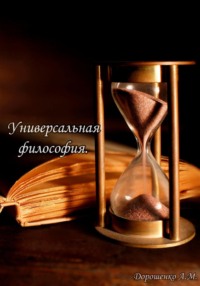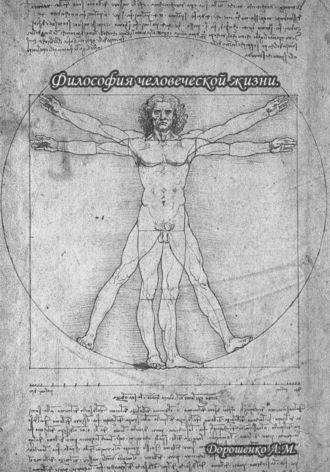
Полная версия
Философия человеческой жизни
Жизнь в пространстве организуется не только индивидуальностью, но и теми существующими структурами, которые есть в социальном обществе. Само социальное общество также организует свою жизнь в пространстве, которое ограниченно размерами нашей Земли. Оказывается, что пространство жизни хотя и организованно социумом, но несёт на себе черты организации его самой индивидуальностью. Более того, его организация есть некая непрерывная цепь наложения и реализации через материю жизни всех предыдущих поколений. Вследствие этого пространство жизни социума представляет собой некую сумму пространств жизни предыдущих поколений людей. Вот почему и отчего пространство жизни социума столь разнообразно, а потому и сложно для нашего понимания.
Вследствие того, что пространство обладает свободой, эта его свобода воспринимается нами как некая возможность овладения, а затем и полного владения всем пространством жизни социума. Поэтому экспансия пространства означает, что жизнь начинает его захватывать в полном объёме. Именно это проявляется во всех сторонах жизни социума, а потому и в жизни всех существующих в нем структур и элементах его строения. А потому жизнь в пространстве проявляет себя в виде его экспансии, а не развития как улучшения самой жизни или его расширения для неё. С другой стороны, мы можем видеть и то, что пространство жизни уничтожается нами или же просто является заброшенным и предоставленным самому себе. Саму же экспансию в этом случае мы уже переносим на самих носителей жизни.
Понимание того, что пространство жизни ограниченно приводит к тому, что мы начинает осознавать невозможность выхода за его пределы. Именно эта невозможность выхода приводит к тому, что мы начинаем мистифицировать, идеализировать и моделировать саму жизнь. При этом мы о жизни не узнаем больше. Не узнаем больше и о самом окружающем нас мире и природе, так как и их мистифицируем, идеализируем и моделируем подобно самой жизни. Поэтому – то, познаем не мир, природу, жизнь и т.д., а их идеальные, магические, модельные, фантастические, религиозные и т.д. субстраты. Но само пространство жизни мы именно ими стремимся заполнить, т.к. не можем до сих пор понять то, что истина познания самой природной реальности заключается в познании и изучении именно её самой, точнее сказать, не в ней самой, а в “элементах” её составляющих. Изучая и познавая её в своей особой неповторимости, мы тем самым познаем и её саму. Но для того, чтобы осуществить это, нам необходимо перейти к познанию генесиса самой природной реальности. Именно генесис позволит нам выявить динамику её изменений и перехода в различные состояния, которые представляются нам в виде некого разнообразия природных реальностей. Например, изучая человека, мы, с необходимостью, должны изучать его генесис, а не его разнообразные модели или представления о нем. В этом случае мы можем понять динамику его развития и изменений, происходящих с ним, а потому объяснить переход его в некое новое состояние. В противном случае мы не управляем ни собой, ни природой, а просто заставляем делать то, что сами хотим и желаем. Это хотение и желание в современной науке лежит как некая основа эксперимента или опыта, который мы проводим с целью убеждения себя в том, что мы также можем это творить. Но творя, мы часто не отдаём себе отчёта в том, что это творение просто не отвечает самой природы вещей и что эта природа может просто нас уничтожить. Поэтому познавая метаморфозы природы, мы познаем и саму природу, но уже в её конкретном, реальном многообразии.
Жизнь в пространстве выражается нами в виде некой её структуры и строения, которое мы и выражаем на нем и с помощью его. Вот почему эти структуры и строения мы называем ещё и объектами жизни и связываем их с самой жизнью. Более того, жизнь на пространстве проявляет себя в виде изменения своей структуры и строения. Эта динамика есть пространственная динамика, несущая на себе изменения, существующих на нем структур, а также и их строения. Пространственная динамика жизни является ни чем иным как статикой жизни, а потому и сама жизнь в нем является статичной, поэтому именно так себя на нем и проявляет. Познавая эту статику пространства, мы устанавливаем некие характерные черты, присуще пространству жизни и наших предков. Эти характерные черты выражены в виде фактов и событий, а потому порой сложно объяснить, с чем они связаны и почему в них проявлены именно таким образом, а не каким – то другим. В таком представлении о жизни, мы не можем определить движение самой жизни в пространстве, а потому в пространстве жизнь только проявляет себя, а не утверждает себя в нем. Именно в пространстве и по отношению к нему мы осуществляем материализацию жизни, создавая так называемую вторую, искусственную природу, которую представляем уже в виде идеальных представлений о реальной природе, а затем переносим их на пространство, создавая тем самым вторую природу. Необходимость создания второй природы связана с тем, что первую природу мы используем как некий её материал, а потому его можно лепить, ломать, соединять, разъединять точно, так как мы это делаем, познавая первую природу. И здесь как не трудно догадаться мы используем отождествления методов и средств познания с построением и созданием объектов второй природы. Создавая вторую природы, мы должны понять то, что она есть не что иное, как отражение наших знаний о первой природе. Она есть некий этап нашего движения к истинному познанию именно первой природы. Вот почему и от чего вторая природа так сильно отличается от первой природы. Сам процесс этого движения связан с тем, что мы сами являемся творением первой природы, а потому чем больше отходим от неё, тем сильнее проявляется наше единство с первой природой, а отсюда и тотальное стремление к ней, к тому, чтобы просто с ней слиться. Не понимания этого движения приводит к тому, что мы вторую природу ставим выше первой, а потому тотально экспансируем её на благо второй природы. Вот почему наше пространство жизни превращается в геометризованные “клочки”, опустошённой первой природы. Поэтому, чем сильнее они геометризованны, тем сильнее и наша жажда по истинной природе, по той природе, которая нас создала.
Говоря о пространстве жизни нам необходимо понять, почему оно так ограниченно природой. Ведь это пространство, как нам сейчас известно, есть небольшая узкая полоска на поверхности самой Земли, граничащая с её поверхностью и безвоздушным пространством, которое граничит с её атмосферой. На Земле жизнь протекает в воздушной, водной, и поверхностном слое Земли или как его часто называю просто землёй. Эти три компоненты необходимы для жизни, а потому и сама жизнь из них слагается. Вот почему не найдя их в космосе мы говорим о том, что в нем невозможна жизнь, а потому мы имеем опыт только о земной жизни и о формах земной жизни, т.к. проанализировать возможность жизни, состоящую из неких других компонентов, мы не можем. Эта невозможность связана с тем, что мы не владеем генесисом развития и зарождения природы и её составляющих. Мы, оказывается, только способны идеализировать и мистифицировать реальность, выражая её в виде тех или иных представлений о том, как все появилось, включая сюда и появление самой жизни. Познание космоса говорит нам о том, что схожих с нашей галактикой или системой, в которых существует жизнь неограниченное множество в силу того, что сам космос также неограничен. Ответить на вопрос, что такое жизнь, значить ответить на вопрос о её месте в системе мироздания или окружающего нас космоса. Без знания генесиса космоса невозможно объяснить и понять появления в нем жизни, а потому и не можем ответить на этот вопрос, как не можем ответить на множество вопросов, постоянно нас мучающих. Заметим, что ответа на них нет, потому что касаются они вообще – то не реального, а идеального плана нашего бытия.
Вследствие того, что природа и космическое бытие проявляет себя в виде огромного разнообразия существующих форм на пространстве необходимо выявить и понять, что порождает эти формы в том виде, в котором они существуют и представляются нам. Это представление связано с тем, что мы сами являемся в существующий мир, а потому переносим это непосредственно и на него. Если же считать, что существующий мир для нас есть некая тотальность, то тогда по отношению к нему мы можем говорить о его развитии и изменении только с точки зрения существующих в нем элементов, как это имеет место и по отношению к самой жизни и вообще живому. Такое полагание говорит о том, что космос существует вечно, что он есть вечный огонь, который то угасает, то появляется вновь. Его тотальность проявляется в его размерах; в существующих в нем телах; в их рождении и смерти и т.д. и т.п. Именно в этом и состоит жизнь космоса, а потому находит своё отражение на всех элементах и составляющих, входящих в него. Одним из таких его элементов является наша Земля ограничением пространства жизни, которой является её форма. Поэтому форма, которую имеет индивидуальность и все живое также выражает собой не что иное, как их ограничения пространства жизни. Различие этих пространств состоит в различии, как их элементного состава, так и в их размерах. Не понимая генесис пространства жизни Земли и пространства жизни индивидуальности, мы идём на простое их отождествления, а потому подменяем, присуще человеческому земное, а земное – человеческому. Так мы отождествляем с целью познания и существующие связи между элементами пространств жизни Земли и человеческой индивидуальности. В науке эти пространства связывают со временем, т.к. они являются внутренними пространствами, которые несут в себе постоянно изменяющиеся элементы структуры и строения. Познавая, мы отображаем их на пространство, которое считаем чисто внешним пространством или же просто пустотой, по отношению к которой и познаем структуру и строения живого, а потому и саму жизнь. Мы выносим внутренне, то, что подвержено постоянным изменениям для того, чтобы убрать эту их особенность постоянного изменения и тем самым сделать эти элементы неизменными и абсолютными. Ведь при таком полагании их легче познавать. Но такое полагание приводит к тому, что во внешнем пространстве структура и строения внутреннего пространства становится уже неживой, а потому не несёт в себе жизни. Так желая познать жизнь, мы познаем смерть; желая познать живое, мы познаем неживое. Выворачивая внешнее во вне, мы, с необходимостью, идём на то, что изменяющееся превращаем в неизменное, живое в мёртвое, относительное в абсолютное и т.д. и т.п. В этом проявляется ни что иное, как основная тенденция нашего познания, связанная с отождествлением внешнего и внутреннего, природного и человеческого. Как показывает развитие самого нашего познания, мы так и не ответили на многие вопросы, которые постоянно ставило перед собой человечество и теперь нам понятно, почему на них мы так и не смогли найти и дать ответа. Обратимся к внутреннему пространству, которым является время, и рассмотрим жизнь в этом внутреннем пространстве или же просто во времени.
1.5. Жизнь во времени.
В предыдущем разделе, мы рассмотрели жизнь в пространстве, а также и само пространство жизни индивидуальности, включая в него и все существующее пространство жизни. Анализируя пространство жизни индивидуальности, мы столкнулись с тем, что это пространство является неким внутренним пространством, которое в познании мы связываем уже со временем. По отношению к внутреннему, мы говорим как о времени, а не о пространстве, т.к. это пространство заполнено материальной структурой и имеет своё строение и состав. Вследствие того, что форма определяется по отношению к внешнему пространству, а её содержание, строение и состав по отношению к внутреннему “пространству” считают, что внешнее есть само пространство, а внутреннее – уже является временем. Изменения, которые происходят внутри формы, связаны не с самими изменениями формы, а с изменениями, которые протекают во внутренней структуре. Непонимание того, в результате чего происходят эти изменения приводит к тому, что мы наделяем её неким новым атрибутом, которым становится уже время. Это непонимание связано ещё и с тем, что мы часто не можем зафиксировать изменения, которые протекают внутри той или иной формы. Фиксируя конечные состояния этих изменений, мы говорим о времени, в течение которого они произошли и совершились. Фиксация этих состояний означает некое их отображение на пространстве, которое мы определяем временем перехода той или иной формы из одного состояния в некое другое состояние. В этом случае время выступает и является просто неким интервалом протяжённости между ними. Поэтому время становится в таком полагании уже пространством, точнее сказать, о пространственном времени. Отображая время на пространстве, мы имеем не само время, а его протяжённость, которая на пространстве несёт ту же самую сущность и суть какие оно несло по отношению ко времени. Пространство и время в лоне протяжённости становятся, просто неразличимы и тождественны. Их различие можно выявить и установить, если ввести движение. Понимая движения как простое изменение, или же просто как любое изменение, означает, что мы под видимое подводим некое невидимое, чтобы визуализировать его с помощью пространства, а ещё и на самом пространстве. Но, как оказывается, изменения хотя и являются движением, но происходят и реализуются на неких структурах и формах, которые отражают себя на пространстве, а потому и на самой форме. Более того, они могут протекать с изменением самой формы, как это имеет место в существующей природе. У человека эти изменения происходят на самой форме, а не путём непосредственного её изменения. В природе же эти изменения протекают в виде изменения формы, например, у бабочки, растений и т.д. Через движение мы не можем объяснить и познать эти изменения, потому что в них принимает участие само изменяющееся, а не какие – то её части или элементы строения, состава и структуры. Изменения мы можем объяснить и понять только через генесис самой этой сущности, понимаемой уже как некая индивидуальность или же, как природная реальность. Наше же познание направлено на разрушение природной реальности, на её деления на части и куски, а потому мы представляем изменения этих частей и кусков как их некое движение. Это вовсе не означает того, что этот подход в изучении и познании является просто неверным или неправильным. Он есть один из этапов нашего движения к истине, и как мы сейчас понимаем, он себя к настоящему времени уже исчерпал. Поэтому мы от познания перешли к играм с разумными машинами, как когда – то играли с техникой и экспериментами при этом, не меняя их сути, а только модернизируя и улучшая их некие качествования, в рамках некого определенного количества. Конечно, очень интересно поиграть в такую же игру и с разумными машинами. И человечество принимает эту игру, заменяя тем самым, само познание на игру в познание и с самими знаниями. Неужели мы действительно все познали и поняли в природе и человеке, что нам осталось только играть с этим познанным нами! А раз все поняли то, почему мы ставим себе такие вопросы, на которые хотим ответить и на которые стремилось найти ответы на протяжении столь огромного времени своего существования человечество. Что есть жизнь во вселенной и каково её место в структуре и строении самого мироздания и космоса? Но кроме этих есть ещё и множество других вопросов так, что закрыть лоно познания нам просто не удастся, как не удаться свести их к различным играм, в которые так любят играть взрослые и дети.
Объясняя движение через изменения, или же полагая, движение и изменение как нечто тождественное, мы тем самым просто сводим любое изменение к самому движению. Это приводит к тому, что мы уже должны представить его на пространстве и привести к известному виду движения. Оказывается, что изменений в природе множество, а вот видов движения существует некое ограниченное и определенное число. Это ограничение связано с тем, что мы геометризуем движения, представляя его в виде той или иной линии, как будто сама форма не может быть выражением некого финального вида движения, несущего в себе уже некий его застывший вид. Более того, саму форму мы также геометризуем, как и движение, а потому не можем объяснить её через генесис времени и путём её разворачивания на пространстве. Это касается и жизни, потому что мы представляем её в виде некого конечного промежутка времени. Представляя её так, и таким образом мы ничего не можем сказать о ней самой, а потому и о том, что она есть такое. Ведь и в этом случае мы берём только некие финальные движения, между которыми она протекает и существует. Об изменениях жизни говорить в таком представлении вообще не имеет смысла. Поэтому движение является самой простейшей формой изменений, поэтому не может покрыть собой все существующие и протекающие в природе явления и процессы, которые имеют место и во второй, созданной нами природе.
Говоря о жизни во времени, мы приходим к тому, что делим это время на некие интервалы времени, связывая и называя их возрастом. Оказывается, что такое деление времени позволяет нам рассматривать жизнь как некие этапы изменений, происходящих и с самим человеком. Это имеет отношение ко всему живому. Определяя и деля так время жизни, мы уже говорим о неких возрастных особенностях человеческой индивидуальности. Эти особенности есть некие качествования, которые мы выделяем в лоне времени, понимая само время как некую протяжённость, как время жизни. Все время жизни мы складываем из времён нашего нахождения в том или ином возрасте. Но складывая его, мы можем говорить только о времени жизни, которое составляют эти так называемые “времена возрастов”. При этом мы не можем понять того, что происходит при переходе от одного возраста к другому, а только констатируем сам факт этого перехода или же просто его наличие.
Если жизнь оторвать от времени, то тогда мы будем иметь уже некую её идеализацию. Этой идеализацией является мистификация, фантазирование и моделирование жизни уже вне времени. Поэтому жизнь вне времени и жизнь вне пространства и составляют эту так называемую идеализацию. Но по отношению к идеализации времени жизни мы говорим о жизни, как о жизни после смерти, тем самым идеализируем не только саму жизнь, но ещё и самого его носителя. Так мы вносим и в него нечто вечное, нечто существующее в нем вне времени и пространства. Это нечто является душой или духом. Понимая то, что время связано с изменениями, происходящими с нами, мы требуем изменений и самого нашего состояния жизни как некого перехода от жизни в материальной форме к жизни в форме души и духа. Отсюда и идея, что человеческая душа может реинкарнировать, осуществлять своё движение к божественному началу или же просто деградировать в более низшие состояния, в мёртвую материю, которую считают и заменяют сатанинским началом. А потому для души существует некий свой путь изменений и развития, который направлен к божественному, или раю или же к сатанинскому, или аду. Эти представления о жизни связаны не с утверждением времени с целью её познания, а наоборот, с целью его негации, потому что в таком представлении время становится уже вечностью, временем без времени. Её можно понимать и как очень большое, огромное время жизни, или же просто как бесконечное время. Говорить же, о неком качестве времени мы не можем, потому что его качеством является качество самого пространства. Вот почему время несёт на себе то качествование, которое несёт в себе и само пространство. Напомним, что под качествованием мы понимаем качество, лежащее в рамках некого определенного количества. Природа проявляет себя на пространстве и именно через него себя и представляет. Время же выступает в роли того, что определяет этот её пространственный вид, а потому и является для нас некой невидимой и неуловимой субстанцией. Вот почему на пространстве и через него мы визуализируем время той или иной материальной структуры, которая является уже определенным состоянием природы, выраженным в виде той или иной формы. Природа развивается в лоне времени, потому что в лоне пространства она проявляет свои состояния, которые мы воспринимаем как её различные материальные объекты, как её непосредственные выразители. С этих позиций для нас проясняются некоторые моменты так называемого живого состояния природы, выраженного на пространстве в виде живой материи, а ещё и в форме живых тел. Природа в таком представлении выступает уже не как некое сущее, существующее, а как вещее, как некое вещающее нам о себе. Поэтому несёт в себе не только протяжённость, но ещё и информационность, путём сохранения своих состояний на пространстве и через него их ещё и проявляющая. Время остаётся в самой структуре, а потому раскрыть его без генесиса нам просто не удастся, а не то, чтобы ещё и понять его.
Если рассматривать жизнь как некий временной генесис природы, то тогда время жизни есть количество времени в течение, которого природа пребывает в состоянии живого. Это время различно для различных живых форм и потому, познавая генесис форм и состояний, мы можем говорить, почему время жизни той или иной природной реальности именно такое, а не другое значение. Но в этом случае мы уже говорим о времени как о неком количестве, в рамках которого природная реальность пребывает в живом состоянии. Без самой природной реальности познания её форм и состояний просто невозможно. Это связано ещё и с тем, что природа проявляет свою многоликость, хотя и выраженную на пространстве в виде существующих объектов и тел и даже того, что мы называем явлениями природы.
Представление о времени как о некой линейной и одномерной структуре привели к тому, что мы можем говорить только о времени жизни, или же просто о времени существование материи в той или иной форме. Это означает ничто иное, как то, что жизнь имеет и некую протяжённость во времени. Как показывает сама жизнь эта протяжённость, хотя и связана непосредственно с ней, но не является её определяющим фактором, потому что форма тел не является линейной, хотя и является протяжённой. Эта нелинейность форм связана именно с тем, что время на пространстве проявляет себя не линейным образом и особенно сильно это проявляется и заметно тогда, когда мы имеем в виду внутреннее строение и структуру самой этой формы. Вот почему и отчего мы прячем внутрь структуры и строения тех или иных форм время. Обратившись к существующему миру и космосу, мы приходим к тому, что время жизни в них столь огромно, что его просто невозможно ни с чем сравнить, а потому и помещаем его в лоне некой потенциальности и потаённости, или же просто считаем бесконечным. Оказывается, космос также живёт во времени и космические формы несут в себе время. То, что оно огромно не означает того, что его у них его вообще нет. Космос также имеет свой генесис, свои определенные только ему присуще формы, которые также выражены на пространстве.
Говоря о жизни в лоне времени, мы, с необходимостью, говорим о том, что время является неким определяющим фактором существования тех или иных форм живого. Но почему происходят эти переходы от одной формы к другой, или из одного состояния в другое? В этом состоит одна из основных, главных истин самого мироздания. То, что способно рождаются, то способно и умирать, но смерть связана с тем, что, являясь, она даёт возможность дальнейшему развитию природы, её генесису. Отсюда следует, что живое есть некое определенное состояния космоса, играющее основную роль в его строении и структуре – осуществлять динамику его собственного развития. Именно в этом состоит ценность космического назначения живого, а потому и его ценность и для самого человечества, и для каждой человеческой индивидуальности. Вот почему и отчего мы говорим о больших и малых мирах, как о макрокосме и микрокосме.
Все это говорит о том, что жизнь в космосе не является неким феноменом, а есть просто одно из его состояний. Вследствие чего это состояние должно рассматриваться и познаваться именно в лоне самого космоса. Говоря о самой природе космоса, мы можем ответить на вопрос о том, что такое жизнь и в чем её сущность, потому что в нем жизнь не является неким единичным фактом или феноменом, как не является единичным фактом схожесть многих природных реальностей друг с другом, хотя и несущих в себе и некие присущие им особенности и отличия. Космос стремится к изменению себя через создания такого многообразия, которое, с необходимостью, приводит к усложнению структуры и строения его самого. Это усложнение несёт в себе динамику развития и самого носителя – космоса. То, что жизнь и его носители развивается в неких определенных условиях, говорит о том, что природа порождает эти формы как некие отражения своего состояния, а потому земному состоянию соответствует земная динамика, которую несёт в себе живая материя. Но в силу того, что наиболее изменяющей составляющей живого является человек, он начинает выступать как основной элемент, как основная составляющая земной динамики, а потому и самого космоса. Вот почему мы видим и начинаем понимать, какую роль в развитии Земли играет человек, а также и то, к чему приводит и уже привела его деятельность. Отсюда и наш страх за то, что творим на Земле, а потому и за то её состояние, которое мы и имеем на настоящее время.