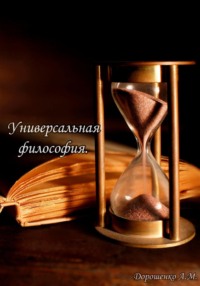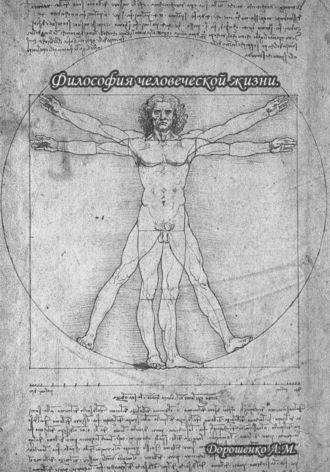
Полная версия
Философия человеческой жизни
Жизнь в таком полагании выступает как некое качество живого, т.к. требует для себя постоянного развития и изменений. Мы же, создавая вторую природу, используя для этого первую, или космическую природу, возводя её в ранг материала из которой можем конструировать и создавать все, что нам захочется, и чего пожелаем. Эти пожелания и хотения не отвечают генесису развития природы и космоса, потому что мы их познаем не в реальности, а в виде неких идеальных объектов, из которых, в свою очередь, создаём чисто математические модели и лепим из них так называемую вторую природу. Говоря о второй природе нам необходимо понять, что основным аппаратом нашего познания является математика. Именно подведение под природу и космос математики ознаменовало собой развитие технической эры человечества, породило и эпоху технической и техногенной цивилизации. Говоря о математике, мы должны понять и осознать, что было положено в её основу, а также и то, на чем она зародилась, а впоследствии и появилась. Обращаясь к истории зарождения математики, мы должны констатировать, что её появление связано с формализацией, с простой констатацией того, что мы видим. Видимое стало выступать и является основой формализации, а затем и зарождения самой математики. Но венцом её явилось представление видимого в виде неких знаков и линий, которые затем и составили основу математического аппарата и формализма. Наша способность формализации связана именно с тем, что видимое для нас представляет собой нечто истинное пусть даже не вполне точное отражение и воспроизведение познаваемого человеком. Эта наша способность связана в первую очередь с нашим разумом и его генесисом. Сам же разум выступает в роли того, что удерживает, сохраняет, а потому и хранит в себе некие структуры и строения, которые мы видим. Это привело ещё и к тому, что разум стал являться неким “хранилищем” информации. Поэтому его генесис связан с тем, что сохраняет те изменения, которые когда – то произошли с её носителем. Разум поэтому есть некая статика человека, а чувство является его динамикой. Оказывается, чувство также подвержено развитию и изменениям, а потому имеет свой собственный генесис. Но не будем отвлекаться от основной темы нашего изложения.
Жизнь во времени, как мы показали, связана с тем, что мы переходим в некое другое состояние, называемое смертью. Это состояние есть полное отсутствие динамики, а потому есть некое статическое состояние, характеризуемое тем, что наша материя в этом состоянии подвержена процессу разложения на более простые элементы и составляющие. Именно это означает, что мы являемся одним из сложнейших образований космоса, в котором кроме информационной составляющей, проявлением которой является наша телесная форма, существует и есть ещё некая энергетическая составляющая, несущая в себе наши возможные состояния. Она уже проявляется на самой нашей телесной форме, а потому не является, так ярко выраженной как выражена наша телесная и материальная форма. Оказывается, что эти состояния мы и связываем со временем, потому что до настоящего времени их почти не знаем и не можем не только познать, но и просто описать. Более того, наука эти состояния полагает в некой тотальности, а потому утверждает в виде той или иной основы уже и самого нашего познания. Вот почему и вследствие чего мы говорим о разумном или чувственном познании, основу которого составляет разум или чувство. В таком полагании разуму отводят статику познаваемого, а динамика его постигается уже с помощью чувства. Полагая в эти основания жизнь, мы говорим о ней как о разумной и о чувственной жизни, связывая и отождествляя тем самым их с некими нашими структурами, которыми являются наш мозг и сердце. А отсюда и познание мозгом или сердцем, о котором говорят те, кто так и не удосужился даже прикоснутся к одной из самой прекраснейшей из человеческих интенции, называемой познанием. Не хочет познавать человек, а просто хочет жить, как говорят простые люди. Но если жить и не знать о жизни ничего разве это можно назвать жизнью. Жизнь только тогда прекрасна, когда знаешь о ней как можно больше, потому что лишь тогда появляется возможность узнать о ней ещё больше. Если же не познавать жизнь, то тогда разве мы сможем устраивать её, так как пожелаем и захотим не только в пространстве, но ещё и во времени.
Оказывается, что наше понимание жизни во времени стоят на представлениях о самом времени на том, как мы его себе представляем. Если время мы геометризуем линией, то время также становится линейным. Если же, мы линию представляем как некое множество точек, то и время становится этим множеством точек или же просто точечным временем. Эти точки времени мы называем событиями, а ещё наделяют их числами. Это время есть историческое время, точнее, представление времени в исторической науке. Вот почему современная история есть история дат и событий, соответствующих тем или иным моментам времени, которые им к тому же ещё и приписываются.
Кроме указанного выше представления времени существует ещё время, представленное в виде прошлого, настоящего и будущего. Такое представление времени имеет скорее отношение к самому носителю жизни, чем к нему самому. Оказывается, что это представление есть ничто иное, как наше представление настоящего через прошлое и будущее. Это есть дуальное представление настоящего или, можно сказать, диалектика времени. Диалектика времени задаёт собой и диалектику жизни, если мы полагаем жизнь в лоно времени. Наиболее часто употребляемое представление времени есть его полагание как повторяющегося, возвращающегося обратно. Это время в геометризации имеет вид окружности. Жизнь в таком представлении времени представляет собой также некое движение по кругу. В этом случае жизнь представляет собой постоянную смену путём возврата к ней самой же. При этом качество самой жизни в таком представлении не изменяется.
Именно по отношению к этому представлению мы и рассматриваем жизнь как некое время жизни. Поэтому мы и говорим о времени нашей жизни. Обращаясь к опыту познания мы, с необходимостью, приходим к тому, что время жизни различных природных реальностей имеет различную протяжённость. Именно по этой протяжённости, мы и судим о жизни. В космосе время жизни его носителей столь огромно, что мы его часто считаем бесконечным или же просто от него абстрагируемся. В этом случае мерой времени жизни выступает время жизни человека, а потому время жизни космических объектов по отношению к этому времени уже имеет бесконечную протяжённость. Но космическое время не есть человеческое время, как время жизни бабочки просто несравнимо со временем жизни человека. Универсальность числа в протяжённости, или мере не даёт возможности различать времена жизни различных природных реальностей. Это означает, что время в различных материальных структурах имеет некую свою меру, и эта мера не сводима к мере самого человека. Универсализация мер и её минимизация привела к тому, что на больших и малых расстояниях и отрезках времени мы уже не можем различать пространственную и временную протяжённости. В этом случае меры пространства и времени становятся тождественными и неразличимыми, а то и просто совпадают. А потому говорить о времени и пространстве в больших и малых протяжённостях мы уже не можем. Может быть, уже сама протяжённость при этом исчезает. Её исчезновение связано с тем, что в качестве некой минимизации познаваемого мы берём точку, как идеальный объект, который не имеет протяжённости, а потому и попросту не существует во времени. Но это не означает того, что эта точка не имеет присущего ей качества. Именно качеством отличается одна точка от другой. Именно это мы и наблюдаем в современной науке. Так точка является материальной, заряженной, спиновой, массовой и т.д. На неё мы накладываем то или иное качество, а потому она уже становится её неким носителем. Так полагая на неё жизнь, мы можем говорить о неком моменте нашей жизни или жизни человеческой цивилизации. Но точечное представление о жизни не даёт нам возможности проанализировать её в неком общем потоке непрерывности, а потому мы имеем жизнь уже как некий набор несвязанных друг с другом ситуаций, которые и характеризуются точечным их представлением. Подробный анализ жизни в той или иной форме нашей мыслимости мы дадим несколько позже и в соответствующих разделах нашей книги. А сейчас укажем на то, что жизнь во времени есть ничто иное, как время, в течение которого живое находится в этом состоянии живого, обладая жизнью. Следовательно, жизнь во времени есть просто некий интервал времени между нашим рождением и смертью, которые и связывают с началом и концом жизни.
1.6. Философия жизни.
В этой части книги мы рассмотрим саму философию жизни. Для этого нам придётся рассмотреть саму философию, а потому и то, какую основную проблему она решает. После этого нам необходимо будет поместить в её лоно жизнь и рассмотреть её. А потому обратимся к самой философии.
В настоящее время под философией понимают и называют её именем все, что угодно. Так говоря о вкусе – говорят о философии вкуса, о моде – как философии моды и т.д. Но, как оказывается, все это очень далеко от истины философии, которая решает одну из главнейших и сложнейших проблем самого человеческого познания. Эта проблема связана с тем, как мы познаем и почему познаем именно, так и таким образом, а не как – то иначе. А потому философия есть одна из самых сложнейших наук, существующих в человеческом познании. Многие связывают с философией просто некое наше представление о той или иной вещи или же некое наше мнение о ней. Именно отсюда и поэтому отождествление объективного, видимого нами с самой философией. Отсюда и такое превратное представление о философии. Не понимание проблем, решаемых философией, низвергают её в лоно некой “научки”, под которую можно свести свои собственные мнения по тому или иному вопросу или же относительно того или иного объекта. Мы же говорим о философии, как о том опыте познания, который связан с тем, как мы познаем мир и почему именно так его познаем.
Обращаясь к истинному лону философии, мы уже, с необходимостью, констатируем, что философия решает проблему поиска некого нового метода познания. Ведь не имея под рукой того, как мы познаем мир, мы не можем говорить о его познании. Оказывается, что под методом современная наука понимает просто некий способ, некую нашу способность описания и объяснения изучаемого. Более того, эти методы часто сводятся просто к описанию той или иной модели, которую строят на основе тех или иных выявленных и выделенных атрибутов в самом познаваемом. Мы же говорим в лоне философии о методе самого нашего познания. Этот метод обладает некой универсальностью и потому даёт нам некое представление о мире как о целостности и как, о неком едином. Так в лоне философии пока выделены два метода познания, которые как оказывается, лежат в лоне некого количества, а потому несут в себе качествования их и различающие. Этими методами познания являются метафизика и диалектика. Системная методология, которая претендует на третий метод познания так до настоящего времени и не разработана, хотя попыток её разработки можно найти в научной литературе огромное многообразие. Системология как метод познания также не разработана, т.к. просто не смогла выйти за рамки количественности, в лоно которой и была положена. Математический аппарат, с помощью которого можно было бы описать, и объяснить систему оказался таким сложным, что не мог применяться к объектам или познаваемых число, которых было больше двух. Именно на этом количестве пока стоит и покоится и само наше познание. Укажем, что третий элемент познания появляющийся как некий синтез двух элементов является ничем иным как простым сведением диалектики к метафизике, а не появление третьего элемента, несущего в себе качествования первого и второго элемента уже в виде их некой простой суммы. Хотя его и полагают как третий элемент, но он ничего не даёт нам в познании как двух других, так и того, из чего вышли эти два элемента. Ведь и они являются неким представлением первоначально положенного познаваемого. Знаменитая проблема описания и объяснения трех тел всплывает перед нами все в той же актуальности и неразрешимости. Это означает, что проблема троичности, ещё рождённая в XVIII веке так до настоящего времени, ждёт своего разрешения. Связывая троичность с системностью, мы тем самым актуализируем саму системность через троичность, которая выражает собой количественность в лоне которой лежит качествование, называемого нами системностью. Вот почему проблема системности не может быть решена без разрешения самой проблемы троичности.
Кроме такого понимания философии её понимают ещё и как любовь к мудрости. Это есть ничто иное, как смысловая канва (главная идея (мысль), стержень повествования), составляющих данное слова понятий), переведённых с греческого языка. Но как оказывается, эта канва самым тесным образом связана с нашим пониманием философии. Ведь любовь и мудрость есть ничто иное, как главные составляющие самой философии, а не науки. Поэтому без их проникновения в её лоно нам просто не удастся. Более того, любовь и мудрость, положенные в неком единстве, которым является и выступает философия, с необходимостью, требует их учёта и в самом процессе нашего познания. Ведь мудрость несёт наше мышление или разум, а носителем любви являются наши чувства, которые не есть простые ощущения или же некая реакция на то или иное раздражение. Эти чувства, с необходимостью, становятся и являются разумными чувствами, как и сам разум, становится и является уже чувствующим разумом. Этим мы хотим показать только то, что синтез одного и другого вообще – то не является одним и тем же, потому что несёт в себе различные качества, а не качествования. В качествованиях они оба тождественны, а потому и отождествляются нами.
Говоря о философии жизни, мы, с необходимостью, помещаем саму жизнь в её лоно, а потому можем говорить как о мудрости жизни, так и о любви к ней. Поэтому жизнь должна рассматриваться именно с этих указанных нами позиций, если мы хотим и желаем говорить уже о философии жизни. Кроме этого, укажем ещё и на то, что нам необходимо будет разъяснить и понять, почему мы понимаем жизнь именно так, а не иначе; почему мыслим её, так как мыслим. Рассматривая жизнь в лоне философии, мы приходим к тому, что философия жизни есть любовь к мудрости жизни или мудрая любовь к жизни. По отношению к жизни любовь и мудрость выступают и являются некими основаниями, через которые мы можем объяснить жизнь, а потому уже говорить и, о самой жизни. Без них мы говорим просто о жизни или же отождествляем её с тем или иным атрибутом, присущем ей. В этом случае мы говорим об определении жизни, потому что она определяется или же просто подводится под нечто другое. Полагая жизнь в лоно мудрости, мы говорим о жизни как о неком жизненном опыте, потому что именно он является ничем иным как мудростью самой жизни. Познавая свой жизненный опыт, а также опыт человеческой цивилизации мы устраиваем свою жизнь более определенно и понимаемо нам. Вот почему сравниваем одну цивилизацию с другой, ищем в нем то, что даёт нам дальнейшее развитие, а не повторение того, что уже было прожито и реализовано ею. Мудрость жизни позволяет нам сохранять и укреплять необходимые для неё элементы и процессы. Любовь к жизни есть ничто иное как некое наше состояние, выражением которого она и является. Но само это состояние не остаётся постоянным, а изменяется, поэтому изменяется качество самой любви вследствие того, что наш жизненный опыт постоянно расширяется, уточняется и углубляется. А потому можно говорить о любви как о неком состоянии, в котором может находиться человек, а можно как о том, что присуще ему как некому разумному, мудрому существу. Если любовь есть некое состояние, то тогда мы, с необходимостью, приходим к тому, что это состояние может исчезать или же не появиться вовсе. Аналогичное мы можем утверждать и по отношению к мудрости или разуму, потому что и их можно считать также некими состояниями. Ведь мы же не всегда думаем, и на это указывает нам наше поведение, которое порой разумным назвать просто невозможно. Все это показывает нам, что любовь также как и мудрость являются ничем иным как некими нашими состояниями, которые могут появляться и проявляться, а могут не появляться и не проявляться в нас. Считая их некими состояниями, мы можем подводить под них нечто, что уже служит и является их неким определением. Вот почему и под саму жизнь мы подводим её различные атрибуты, определяя её через будущее, через воспитание, через счастье, через добро, через … и т.д. и т.п. Так мы поступаем всегда, когда определяем то, что нам неизвестно, подводя под него уже нечто известное нам. В определении мы отождествляем некое одно и некое другое, сводя их тем самым к некому единому. Так, например, определяя жизнь как время, мы отождествляем время и жизнь, получая в итоге их некое единое, которое называется временем жизни. Оказывается, что этим единым является некая простая сумма того, что мы подводим под это одно. Но можно время положить и в лоно самой жизни, тогда мы уже говорим о жизни во времени. Это указывает на то, что жизнь определяется не временем жизни, а протекает во времени, имеет свою некую протяжённость. Жизнь полагается в том случае в лоно времени. Но если время положить в лоно жизни, то тогда мы уже говорим не о времени жизни, а о самой жизни во времени. Жизнь во времени есть жизненный опыт, а время в жизни есть то время в течение, которого мы пребываем в состоянии живого. Это состояние может быть фиксировано нами, но они не может быть проанализировано разумом. Его мы и связываем с любовью. Если же оно нами не фиксируются, то тогда вызывают у нас любовь, которую мы и связываем с мудростью. Жизнь во времени есть любовь в мудрости, а время в жизни есть мудрость в любви. Оказывается, что это не одно и тоже, хотя многим может показаться, что это действительно одно и тоже. В современной науке они действительно считается тождественными. Это связано с тем, что мы под статическим неизменяющимся может понимать нечто динамическое изменяющее, а под динамическим – нечто статическое. Мы требуем от своего познания полагания некого статического в динамическое, а в динамическом некого статического, потому что в противном случае мы просто не сможем осуществить сам акт познания. Но откуда такая эклектика до сих пор так и остаётся пока неясным и невыясненным. Оказывается, что динамика может быть познана именно в самой динамике, а не в статике. Ведь если мы вводим статику, то тогда, с необходимостью, уже должны моделировать и идеализировать познаваемое, останавливая его, отрывая от генесиса его собственного развития и изменения. Именно таково и само наше познание. А потому мы часто имеем дело со статикой как с моделями и с динамикой, так с методами описания этих моделей. Оказывается, в таком подходе жизнь, мы просто не сможем познать, потому что нам придётся говорить о ней как о некой статике в лоне некой динамике, или же о динамике, но при этом считая её саму уже некой статикой. Но что такое статика жизни и чем она является? Оказывается, что статикой жизни является смерть, если мы рассматриваем её в лоне времени. В пространстве статика жизни существует в виде видимых и визуализированных объектов, которые оставили для нас предыдущие поколения. Именно поэтому мы говорим о статике жизни только на пространстве, а о её динамике только во времени. Если нет пространства и времени, то тогда разрешить апорию, возникающую в понимании статики и динамики жизни просто невозможно. Оказывается, это справедливо и по отношению к самому нашему познанию, а потому с этим мы сталкиваемся постоянно при объяснении и описании того или иного познаваемого. Жизнь не может быть положена в лоно статики, потому что в статике её просто не существует. А потому, являясь динамикой, она требует для своего познания и понимания только одной динамики. Именно и потому возникает непреодолимая сложность уже при её простом рассмотрении, не говоря о её познании и понимании. Вследствие этого и такая её многоликая определённость через другие атрибуты.
Рассматривая жизнь в старых ещё кантовских основаниях, которыми являются пространство, и время мы можем говорить о ней как о жизни в пространстве и как о жизни во времени. Помещая жизнь в пространственное – временной континуум мы можем проанализировать её как с точки зрения её пространственных форм и структур, так и с точки зрения времени их существования. Это есть некое статодинамическое описание жизни и, как оказывается, оно более правильно и точно описывает и объясняет жизнь. Но эти основания приводят нас к механическому пониманию жизни, потому что задают не изменения её форм и структур, а только связи, существующие между элементами самих этих форм и структур. В этом проявляется механичность и модальность данного подхода, с помощью которого мы пытаемся понять и объяснить уже саму жизнь. Так мы объясняем и все то, что берём в качестве познаваемого. Более того, все это связано ещё и с тем, что мы временное, изменяющееся помещаем в пространство, тем самым останавливаем его, превращая в некое статическое образование, которое затем познаем путём деления на части или некие удобные для нашего познания куски. При этом временное, изменчивое становится уже неизменным и пространственным. Это также приводит к тому, что мы снова превращаем изменчивое в некое неизменное, тем самым сводя динамику к статике. Вот почему в таком представлении динамикой является движение, которое понимается как некая простая трансляция познаваемого по самому пространству. Эта трансляция есть ничто иное как некая визуализация изменений на пространстве, точнее, отражение временного на пространстве. Поэтому мы постоянно должны пересматривать это неизменное вследствие того, что изменяются наши представления о самом этом временном. Так, например, сущее как существующее переходит в лоно бытия как того, что бывает, а потому несёт в себе некую временную суть и временной атрибут. Поэтому мы можем говорить как о сущем в бытии, так и о бытии в сущем. Это означает, что можно существовать через бывание или просто быть в существующем или же о существовании в бывании или о существовании в том, что бывает. Следовательно, быть в сущем или существовать в бытии есть не что иное, как быть в чем – то или быть чем – то. Оказывается, что быть в чем – то и быть чем – то для науки настоящего является просто одним и тем же. Но в одном случае мы говорим о предмете науки, а в другом – уже о её объекте. Аналогично, помещая в живое жизнь, мы говорим о ней как о неком предмете живого, говоря же о самой жизни мы, с необходимостью, превращаем её уже в некий объект, отождествляя её тем самым с самим живым. Тем самым мы приходим к тому же самому полаганию, которое и имели. Предметность несёт в себе некую объективность, т.к. выражает себя через формы, а потому и объектность несёт в себе некую предметность, т.к. лежит в некой определенной форме. Возводя все это в лоно универсальности, мы получаем, что, рассматривая мир с точки зрения его строения мы, с необходимостью, приходим к тому, что и каждый элемент этого его строения является уже и самим миром, несёт в себе и сам мир. Поэтому делить и мир на внешнее и внутренне просто неверно, т.к. внешнее обязательно станет неким внутренним более внешнего, а внутреннее более внутренним некого внутреннего. Недаром поэтому мир часто сравнивают с перчаткой, которую выворачивают с одной стороны на другую, в итоге при этом, как оказывается, меняется только внешняя сторона её при этом суть самой “перчатки2 не меняется. Именно эта неизменная суть привела науку в настоящее время к тому, что она просто остановилась в своём развитии. Сколько можно выворачивать перчатку, крутя внешнюю и внутреннюю её стороны при этом, не меняя самой её сути. Вот в этом колесе внешнего и внутреннего, мы и постоянно находимся, не можем выйти из него. Поэтому для познания нам необходимо изменить, а потому выявить некие новые основания его самого, а не играть в вечную шарманку с самим нашим познанием.
Беря в качестве оснований любовь и мудрость, и полагая на них жизнь, мы приходим уже к некому пониманию жизни, как со стороны мудрости, так и со стороны любви. Поэтому можно говорить о мудрой жизни и о любви к жизни. Мудрость жизни есть ничто иное как постижения жизни через жизненный опыт, а любовь к жизни есть её постижения со стороны того положительного, что создаёт у нас некие возвышенные чувства. Любовь к жизни тесно связана с сохранением и развитием жизни, а не её уничтожением и разрушением. В настоящее время вследствие того, что в качестве оснований положены некие модели и идеальные объекты, несущее в себе эти модели и объекты, а потому и отражающие на этих основаниях и несущие в себе их некую сущность, суть и смысл. Умение управлять искусственными процессами, вообще – то не означает умения управлять и естественными явлениями природы. Но наше познание идёт и на это отождествление, а потому искусственная и естественная составляющие окружающего нас мира просто отождествляются. Изменяя естественные состояния природы или же, просто имитируя её поведение, мы тем самым, не постигаем саму природу, а потому приписываем ей те качества и качествования, которые присущи и самому человеку. О новых основаниях нашего познания мы будем говорить ниже, а сейчас обратимся к тому смыслу и сути, которые несёт в себе философия.