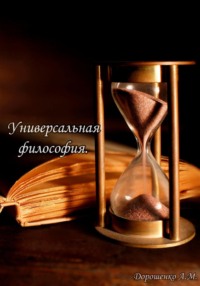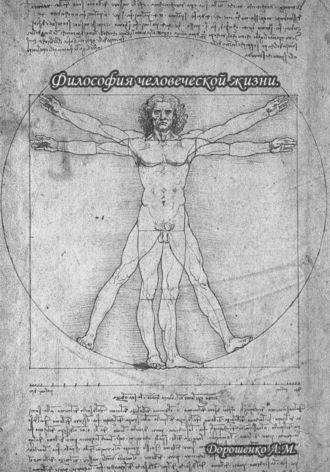
Полная версия
Философия человеческой жизни
Жизнь как некое качество живого мыслится нами в виде некого качествования, лежащего в лоне самого качества, называемого нами живым. Жизнь потому есть некое качествование, лежащее в лоно самого живого. Поэтому, о жизни мы говорим со стороны её некого качества и понимаем под ним качество самой жизни. Так, например, если мы говорим о качестве человеческой жизни, то при этом не имеем в виду качество самого живого. В лоне жизни само живое уже становится объективным, а потому и характеризуется объектами, которые называются живыми существами. Живое объективизируется, выступая в виде объектов, жизнь при этом становится уже некой предметностью, присущей всем живым объектам. О качестве жизни самого живого, мы уже просто не говорим, потому что оно имеет отношение только к человеческой жизни. И опять мы попадаем в лоно предметности и объектности. Такое положение связано с тем, что наша зрительная способность проявляет себя в том, что мы, с необходимостью, фиксируем, а фиксируя, останавливаем изучаемое для того, чтобы осуществить его сравнение с нами или же с неким другим объектом. Именно ещё такой способностью мы обладаем. Мы требуем неизменности того, что берём в качестве познаваемого, т.к. обладаем сами этим качеством неизменности. Оно проявляется в виде того, что каждый из нас имеет присущую именно и только человеческому существу форму. Проявление этой формы требует от познающего отождествления с познаваемым уже в их неком единстве, которое мы и называем формой. Отождествление не только формы, но и самой несомой нами сущности приводит к тому, что мы наделяем и само познаваемое тем, чем сами обладаем и что сами несём. Изменения, которые мы в себе наблюдаем, переносим их и на природу, тем самым, требуя и от неё этих же изменений. Все это означает, что, познавая природу, мы скорее познаем себя, стремимся к познанию своей собственной самости. В этой стремлении мы наделяем и любое познаваемое человеческими атрибутами, т.к. отрываем их от своей самости и полагаем их в пространство, в котором они становятся некими абсолютными и неизменными сущими.
Понимание жизни связанно с тем, как и в виде какой модели, мы её представляем. Под эту модель мы подводим саму жизнь. Так если мы говорим о методе описания и познания движения, то тогда помещая в это лоно жизнь, мы с необходимостью, приходим к представлению о жизни как о неком движении. Жизнь как движения, с необходимостью, несёт на себе все атрибуты самого движения. Так носителем жизни в такой модели является “человек – точка”. Поэтому жизнь как движение этой модели есть ничто иное, как её некая трансляция по пространству, отражает себя на пространстве в виде тех или иных точек событий, которым мы приписываем время и факт, а также представляют собой ещё и точки. Множество этих точек составляют движение, которое проявляет себя на пространстве в виде линии жизни, называемую нами ещё и просто самой жизнью. Откуда же возникает такое представление о жизни и почему мы её мыслим именно так? Оказывается, это связано с тем, что само человеческое познание сконцентрировалось вокруг описания и объяснения движения. Поэтому все, что может быть отождествлено с ним, мыслится именно так, как мыслится само движение. Мыслим же мы движение так потому, что смысл и суть самого движения есть ничто иное, как утверждение нашей способности видеть. С помощью этого имени мы утверждаем сам факт того, что мы можем видеть, выраженного в словах да вижу (д – виже – ние). Использование окончания и введение его есть ничто иное как снятие родо – видового атрибута имени и полагание его в неком синтезированном имени, которое не несёт в себе ни рода, ни вида. В современной филологии это есть ничто иное, как виды рода, которыми являются мужской, женский и средний род. Именно средний род есть ничто иное, как некий вид снятия или простого синтеза мужского и женского родов в неком среднем роде. Используя средний род, мы тем самым пытаемся снять конкретное, присущее человеку для того, чтобы водрузить его уже в некой всеобщей тотальности. В науке все понятия имеет и несут на себе эту нашу мыслимость, а потому их в науке существует огромное множество. Так примером таких понятий являются сущее и бытие, событие и изменение, движение и развитие и т.д. Все это говорит о том, что мы мыслим природу так же, как, мыслим и самого человека. Мы мыслим её так потому, что именно мы её мыслим, а потому и наделяем её, присущими нам атрибутами. Вот почему все, что мы познаем, мы полагаем в природу, а потому считаем и её именно таковой какой познали. Порой не отдаём себе отчёта в том, что в самом процессе познания мы используем идеализации, которые являются просто только лишь одной из сторон познаваемого. Мы познаем не саму природу вещей, а только их модели и идеальные объекты, которые к тому же несут в себе соответствующие им модели. Говоря о познании как о процессе, мы тем самым говорим о некой модели самого нашего познания, а потому, с необходимостью, идём на то, что моделируем и то, что познаем.
Наиболее явно и ярко это проявляется в современном образовании. Так если мы считаем наш мозг некой машиной для запоминания, хранения и обработки информации, то тогда и все, что мы познаем, с необходимостью, несёт на себе все эти указанные атрибуты самого нашего мышления. Современное образование стоит именно на этих атрибутах, т.к. за знания часто принимают и выдают просто нашу способность к запоминанию, а не к самому познанию. В таком полагании мозг функционирует как машина, записывая на него различную информацию и осуществляя её простое запоминание. Мы не учим детей познанию, тому, как познавать, а учим только запоминанию и воспроизведению того, что считаем якобы изученном ими. Именно это в скором будущем приведёт к тому, что современное образование просто рухнет в своей механической воспроизводимости машин – людей. В настоящее время эта тенденция уже начинает себя проявлять. Она проявляется в том, что дети не умеют, не только использовать свои знания, но и начинают понимать, что для жизни они им просто не нужны. Эта не востребованность связана с тем, что под знания стали подводит, а то и просто отождествлять с фактами, субъективными мнениями, информацией, событиями и т.д., а не учить добывать знания, конструировать их из фактов, субъективных мнений, информации, событий и т.д. Знания лишь тогда являются знаниями, если они организованны. Оказывается, что организовать их можно только в том случае если научить их методам, которыми организует свои знания та или иная конкретная наука. Мы перестали учить детей тому, как делать что- то, а стали просто загружать их информацией, к тому же ещё, отождествляя её с самими знаниями. Модель человека – машины в современном образовании на “лицо”, а отсюда и не востребованность к самим машинным знаниям.
Классическая философия кроме всего того, о чем мы уже говорили выше, с необходимостью, требует привлечения в своё лоно новых понятий и категорий. Так философия сущего строится на своих категориях и понятиях, а философия бытия – уже на своих. Различие их состоит в том, что сущее в лоне некоего нового метода познания превращается уже в бытие. Именно с точки зрения метода различаются сущее и бытие. Их различие часто связывают с их различием имён, но это вообще – то неправильно и мы это уже неоднократно показывали и объясняли. Новый метод позволяет нам объяснить и описать мир с точки зрения нового представления, в котором и по отношению, к которому он утверждает и само это новое представление о мире. Говоря о философии жизни с точки зрения классического подхода нам необходимо ввести новые категории и понятия уже философии жизни. Если мы полагаем жизнь в лоно философии тогда все философские понятия и категории уже становятся применимы и к самой жизни. Если же мы ставим жизнь выше философии и полагаем уже саму философию в лоно жизни, то тогда нам необходимо строить и выявлять новые категории и понятия философии уже по отношению к жизни. В лоне философии жизни все философские понятия, с необходимостью, должны преломится через жизнь, а потому стать живыми, динамическими понятиями и категориями, которые уже будет нести и отражать в себе именно саму жизнь. Оказывается, что таких понятий и категорий в философии просто нет, потому что её лоно есть некое лоно универсальности, а потому оно требует подведение под него того, что мы хотим изучить, объяснить и описать. Вот почему мы говорили о жизни с точки зрения философских оснований, которыми являются любовь и мудрость, как о любви к жизни и как о мудрости жизни. Но, как оказывается, что все – таки главным в построении философии жизни является отыскание некого нового метода познания, который бы позволил нам объяснить и понять жизнь как жизнь, а не как её некий заменитель, являющийся уже её некой моделью или идеальным объектом. А потому мы рассмотрим и это в соответствующем разделе нашей книги.
1.7. Смысл жизни.
Говоря о жизни, нам необходимо определить какую суть и смысл несут в себе не только понятие и имя жизнь, но и что она есть такое. Появление понятия жизнь, связано с выделением в лоне естественного живого и неживого. Точнее, это связано с неким делением материи на живую и неживую материю. Выявление структуры живого и подведение под его изучения систематики привело к тому, что в лоне самого живого, которое стали связывать с самими живыми объектами появляется некое его новое качество, называемое жизнью. Жизнь в лоне объективности живого превращается в некое качество живого, которое несут в себе живые существа. Их жизнь является уже их неким новым качеством. Так в лоне объективности появляется предметность, носителем, которого и становится жизнь. Живое становится уже как объективное, как видимое и существующее, а потому выделяется и полагается уже в виде живого вещества или же живой материи. Неразличимость живого и жизни приводит к тому, что их начинают просто отождествлять, полагая живое, обладающее жизнью и жизнь как то, что принадлежит только живой материи и живому веществу. И здесь мы обнаруживаем ничто иное, как некое отождествление нас самих, являющихся живыми существами с живыми существами самой природы. Это отождествление приводит к тому, что даже поведение живых существ мы принимаем за своё собственное поведение. Именно отсюда и именно таким образом Ч. Дарвин, вводит в биологию борьбу за существование, как главный двигатель существования живых существ. Являясь живым существом, человек также ведёт борьбу за своё существование, а потому, часто не осознавая этого проявляет свою чисто животную природу. Поэтому в таком представлении и мыслимости человек отождествляет себя с неким живым существом, имеющим с ним наибольшее сходство. То, что есть некое эмбриональное сходство верно, но то, что человек произошёл от некого прародителя, чисто земного, живого существа едва ли является правильным и верным. На этот вопрос не может ответить эволюционная теория биологической науки, т.к. берет чисто внешние изменения, происходящие с тем или иным живым существом и рассматривает его только с точки зрения его изменчивости и наследственности, которые не касаются энергетической и информационной составляющих, как самой природы, так и человека. Без них мы говорим только в внешней эволюции живой материи и живого вещества, включая сюда и их объективные составляющие, которыми являются все живые существа Земли. То, что живое принадлежит только Земле и только в её лоне может существовать означает, что Земля задаёт некие границы существования живого. В этом состоянии мы не можем существовать вне Земли, а потому ищем такое состояние, которое позволило бы нам выйти за эти границы нашего существования. Наше движение к нему привело к тому, что мы стали трансформировать жизнь в космос, создавая тем самым некие модели жизни вне состояния живого, присущего нам как земным существам. Такую трансформацию осуществил человек в рамках религии, получив тем самым универсальное человекоподобное существо, называемое Богом. Движение к этому существу и жизнь для него и ради него стало ничем иным как неким смыслом и сутью самой жизни человека, которая реализует себя в виде живой, земной материи. Сама же жизнь на Земле начинает терять всякий смысл, а потому теряет и свою суть. Это связано с тем, что движение к этой жизни возможно через множество различных путей, которые сконцентрированы в виде мировых религий. Но кроме этой трансформации жизни её помещают в лоне чисто биологической смерти, тем самым, трансформируя её уже в некое человекоподобное существо противоположное Богу. Так появляется антидвижение, как некий вид падения в оживлённую или ожившую смерть. Этим существом является Сатана или антиБог. Каждая мировая религия имеет ещё и своего антиБога или же Сатану, с которым и ведёт свою неукротимую и вечную борьбу. Обращая это представление на самого человека мы, с необходимостью, приходим к тому, что жизнь идеализируется, мистифицируется, фантазируется и т.д. для того, чтобы хоть как – то отвратить человека от его финального конца – смерти. Это связано с тем, что мы отрываем жизнь от реальности, а потому, с необходимостью, идём на её универсализацию, означающую ничто иное, как полагание в космос некого присущего нам качества, называемого жизнью. Хотя жизнь присуща всему и каждому живому существу, но положенная вне его она уже становится только некой стороной самой жизни, которую мы и называем идеей жизни, а не самой жизнью. Вот почему мы говорим, что познать жизнь можно только в её реальности, а не в идеальности. Поэтому из самой жизни мы должны выделить истинные и реальные составляющие, которые позволят нам её познавать, объяснять и описывать. Раз жизнь реальна, то отрывая её от реальности, мы познаем уже некую идеальную, не реальную жизнь или же, можно сказать, просто саму идею жизни. Вне реальности жизнь, её смысл и суть просто исчезают и часто становятся просто невостребованными. Но как только мы попадаем в лоно реальности, жизнь начинает проявлять себя в таком огромном разнообразии и многообразии, что понять её просто невозможно. Оказывается, что понять её невозможно, потому что она лежит в основе самого нашего познания, а потому, являясь его основой, может быть только ею и являться. Поэтому познавать её мы не можем, потому что для её познания нам необходимы некие новые основания, которые отражали бы в себе не только реальность, но ещё бы позволяли нам анализировать через них уже и саму жизнь.
Обращаясь к понятию жизни мы, с необходимостью, приходим к тому, что связываем её с некими атрибутами, характеризующими саму жизнь. Более того, часто их просто отождествляют ещё и с самой жизнью. Об этом мы уже говорили во введении в философию жизни. Оказывается, что под неё можно подвести любой жизненный атрибут и считать жизнью, что угодно, то, что имеет непосредственное отношение к ней или же с ней как-то связанной. Вот почему с жизнью, мы связываем другие понятия, стараясь тем самым определить её и через нечто другое. Так, если мы определяем жизнь, как движение, то тогда сама она становится просто неким видом движения живой материи. Если же мы, определяем её как изменение, то тогда и она несёт в себе изменение, а потому и определяется через это понятие. Но определяя, таким образом, понятие мы просто отождествляем его с неким другим, точнее, замещаем его этим другим, а потому и тем самым ничего нового о ней ничего сказать не можем. Сама суть и смысл понятия лежит именно в его имени. Именем жизни является сама жизнь, а потому, чтобы раскрыть его смысл и суть нам необходимо обратится к толкованию этого понятия. В науке, жизнь определяют, как некий способ существование белковых тел. Но говоря о способе мы, с необходимостью, ещё утверждаем то, что определяющим её является некая способность существования самих белковых тел. Поразительный факт! Белковые тела обладают некой способностью к своему существованию. А потому у них есть свои собственные способности. Оказывается, что такая их способность связана с тем, что её просто отождествили со способностью самого человека. Поэтому способность есть нечто иное, как отражение человеческого в определении и познании белковых тел. Разве это не говорит о том, что мы идём на отождествление некого одного с другим для того, чтобы определить это первое. Такое отождествление осуществляется и по отношению к некому другому, но в этой определённости другого происходит также ещё и наше отождествление с ним, а затем ещё и его полагание в первое. В этом случае мы как бы определяем одно через другое, но это другое отождествлено с нами и, более того, ещё и отстранено от нас. Поэтому создаётся впечатление как будто бы, мы определяем это одно через другое уже более объективно, потому что не примешиваем к нему нашу субъективность. Именно так и таким образом мы определяем признаки предмета и объекта и его отличие от других предметов и объектов. Но тот или иной признак мы выбираем сами, а потому абстрагируемся от других признаков тем самым, идеализируя в определении только то, что считаем якобы присуще одному, а потому уже не присуще некому другому. Это приводит к тому, что осуществляется деление на признаки различия и признаки сходства. По ним и на основании их, мы говорим и утверждаем о том, что поняли и познали нечто в самом познаваемом, а потому и само познаваемом. Эти признаки различия и сходства мы часто обозначаем и называем качеством самого познаваемого. Но в такой определённости мы, с необходимостью, имеем огромный элемент субъективности и объективности, как отождествление различных признаков познаваемого, хотя основу такой определённости должно составлять то или иное основание, но уж полагаемое как основа самого нашего познания. Так, например, если мы определяем движение как изменение вообще, то это означает некое отождествление видимого с изменяющимся. Именно изменяющее мы можем фиксировать с помощью зрения, а потому определяем то, что видим как то, что изменяется. Но даже если нет изменений, мы можем видеть, а потому говорим о движении именно как уже о видимом изменении. При этом определяющим движение является изменения, происходящие в самой природе. Если нет видимого изменения, то говорить о движении мы уже не можем, а потому говорим об изменениях, которые происходят с самим познаваемым. Поэтому невидимые изменения мы и полагаем как то, что составляет, определяющий топос и самого движения. Говоря о невидимых изменениях, мы, тем самым, подчёркиваем только то, что изменения всегда невидимы, а могут проявлять себя через движение. Именно по нему мы говорим об изменениях. Если есть движение, то, с необходимостью, должны происходит и некие изменения. Сами же изменения необязательно видимы. Именно так и таким образом ведёт себя природа, а не так как мы её представляем. Это означает и то, что движение является некой интенцией разума, а изменения связаны с некой интенцией чувства. Следовательно, в основу определяющего, мы полагаем чувство, а то, что определяем, с необходимостью, должно принадлежать разуму. Так определить что – то это значить подвести нечто чувственное нами под разумное и утвердить его через это чувственное. Вот именно и поэтому, познавая, мы переводим чувственное в разумное, осуществляя тем самым его визуализацию. Если же мы определим изменения как движения, то тогда в качестве основания нашего познания мы уже полагаем разум, а потому, с необходимостью, обнаруживаем, что изменения не могут быть охвачены движением, потому что тогда мы должны констатировать факт наличия в природе невидимых движений или движений, которые нам являются, а затем и исчезают. Оказывается, что если мы все – таки на это идём то, тогда все изменения должны быть сведены к движениям, которые, с необходимостью, должны быть ещё и видимыми. Объективность и визуальность движения требует объективности и визуальности самих этих изменений. Видимые изменения лежат в лоне движения, а потому мы идём на редукцию изменений, сводя их просто к движению. Разум требует ограниченности чувства и именно по отношению к нему разум выступает как ограниченный, объективный, а ещё и как некий критерий истины. Именно в этом лежит его механичность, как некая, положенная ещё Р. Декартом простота. Разум прост – материя делима, ограничена и протяжена, а потому и наделяется простотой, которой обладает уже сам разум. Это и показывает нам то, что хотим мы этого или нет, наделяем другое тем, что выявили и положили в некое первое. Материя наделена разумом, так как постигается именно им. В этом и состоит её простота и простейшая объективизация, полагаемая ещё и как некая тотальности.
Мы показали, как осуществляется определённость некого одного через другое. Оказывается, что этим другим является либо сам познаваемый, либо само познаваемое. Но познаваемое отождествляется с познаваемым, а потому несёт в себе их некое тождественное единство, которым мы наделяем определяющее, а затем ещё определяем и само определяемое. Современное познание или познание, которое утвердилось и существует, в настоящее время, есть именно объективное познание, стоящее на разуме и на его ограниченности, которую мы представили и показали выше. Объективизация и простота разума привела к тому, что мы стали объективизировать все что познавали, что привело к тому, что мы стали определять объективное через саму объективность, формальное через саму форму, движение через само движение и т.д. Все это привело к тому, что под неё стали подводить субъективность, наделяя тем самым и само познание этой субъективностью, превращая тем самым науку в некое множество или совокупность различных мнений, которые и выдаются за истинную науку. Чтобы в этом убедится достаточно взглянуть на работы современных учёных и на те проблемы, которые они якобы решают.
Все это показывает, что без выявления новых оснований, а также без построения нового метода, с помощью которого можно было бы познать уже саму природную реальность, а не модели и идеальные объекты её замещающие, т.к. мы не сможем продвинуться в нашем дальнейшем познании ни на шаг. А потому говорить о сущности, сути и смысле жизни, определяя её через некое другое, мы уже не можем, т.к. это приведёт нас к её простому отождествлению с этим другим, тем самым сама жизнь спрячется за этим новым её определяющим. Это и означает, что само понятие жизни уходит в некое лоно потаённости. Более того, возводя жизнь в лоне тотальности, мы уже имеем дело не с ней самой, а с неким идеальным, универсальным и модельным её представлением, а потому познать её также уже не сможем. Жизнь, с необходимостью, реальна. Она фатально реальна, и подойти к её познанию можно только и именно из этого лона реальности. Более того, только в самой реальности и по отношению к самой этой реальности жизнь имеет свой некий смысл.
Говоря о смысле жизни, мы часто подразумеваем под ним непосредственно самого её носителя, которым является человек. Являясь живым в неком многообразии всего земного живого, человек выделяется из него именно тем, что его жизнь имеет некий смысл. Можно ли говорить о смысле жизни самого живого, например мотылька, бабочки, жука, паука и других живых существ? На этот вопрос ответить при современном уровне познания просто невозможно и, как оказывается, это связано с тем, что жизнь есть некое качество не всего живого, а только той её формы, которая осознала себя как живое. Этой формой и является человек. Поэтому жизнь выступает как некая ценность, а не только простое качество всего живого. Эту ценность может выделить и выявить только человек, т.к. осознает её уже как некую тотальность не только по отношению к себе, но и по отношению к другим человеческим существам. Все это приводит к тому, что природа, породившая нашу Галактику, а в ней солнечную систему и планеты, одной из которых является наша Земля не может не обладать тем, чем обладает и несёт в себе человек. Более того, все это указывает на то, что человек является всего лишь некой ступенькой или неким определенным этапом в развитии и генесисе самой природы. Если оторвать его от природы, то тогда говорить о смысле жизни, а потому и о самом живом просто бессмысленно, потому что живое в этом случае становится просто некой формой существования материи. В этом случае жизнь превращается в качество существования живой материи, т.к. остальная материя по отношению к ней выступает как мёртвая материя. Оказывается, что мёртвой материи на много больше, чем живой материи и именно поэтому мы познаем и изучаем именно мёртвую, а не живую материю. Изучая мёртвую материю, мы, с необходимостью, должны приводить в это состояние саму живую материю. Это мы делаем до настоящего времени, а потому и довольно успешно в этом преуспели. Смысл живого, а потому и смысл самого человека лежит в самом лоне живого. Точнее, он лежит в том, что природа создаёт живое, которое является ничем иным как её динамикой. А потому мы можем говорить о том, что динамика природа является нам именно через многообразия форм живой материи. А потому мы не можем её не постичь и понять, т.к. сами также как и она являемся чисто динамическими существами. То, что природа отображает себя на пространстве в виде неких определенных структур, это правильно, но то, что эти структуру несут в себе динамику просто неверно и неправильно.