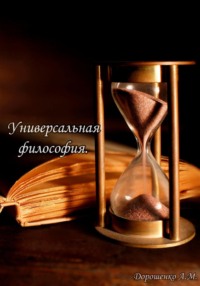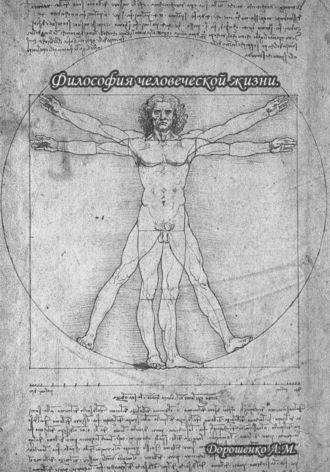
Полная версия
Философия человеческой жизни
Мы выделили три представления о жизни, которыми является судьба, чувство как осознанные инстинкты и жизненный опыт. Все эти представления о жизни стоят и строятся на тех или иных основаниях, а также на видении и отношении к жизни людей в тот или иной период их жизни. Кроме указанных нами представлений о жизни часто, оказывается, представляют не саму жизнь, а жизнь после смерти или “жизнь” после жизни. Мы рассматривали только представления о самой жизни, а потому не рассматривали жизнь после смерти, а также её саму во всем многообразии её представлений и проявлений. Эти представления связаны с тем, что жизнь в таком полагании идеализируется и абстрагируется, а потому выступает не по отношению к её конкретным носителям, а по отношению к некому единому и абсолютному, которым является либо Бог, либо сверхразум, либо природа, либо … и т.д. и т.п. Это есть не что иное, как полагание жизни в “космос”. Такое полагание, как мы уже знаем, приводит к вечности в понимании и самой жизни, а потому жизнь в этом лоне становится уже вечной и бесконечной. Именно так и таким образом жизнь отрывается от своего носителя и начинает существовать уже вне его лона и носителя – человека. Поэтому её можно абсолютизировать и возвести в лоно вечности. Жизнь уже не является жизнью, т.к. присуща тем природным реальностям, которые находятся в состоянии живого, являются сами живой материей. Поэтому выход за лоно самой жизни есть уже не она сама, а некое другое состояние, которое мы называем смертью. Это состояние есть состояние, в котором живая материя распадается, а потому не развивается, как это имеет место в состоянии, называемое нами живой материей. Объяснить, описать и понять это состояние мы можем только по внешним и внутренним проявлениям, т.к. отождествиться для познания с этим состоянием мы просто не можем. Ведь познать и объяснить означает отождествление с тем, что мы берём в качестве познаваемого. Отождествление со смертью приводит к смерти, а потому в этом состоянии говорить о познании вообще невозможно. Вот почему оно для нас выступает как некая фатальность во всех планах нашего бытия.
Если говорить, о жизни по отношению к индивидуальности то, как оказывается, каждая индивидуальность имеет своё собственное представление о ней. Все они связаны с тем, что именно полагает та или иная индивидуальность в своё понимание и представление о жизни. Оказывается, что с ней она обычно связывает ещё и свои желания и мечты. Это означает не что иное, как отождествление жизни с тем, что желает, а также ещё и с тем, о чем мечтает та или иная человеческая индивидуальность. Такое отождествление приводит и к тому, что жизнь превращается в желания и мечты этой индивидуальности. Так желая и мечтая, мы направляем всю нашу жизнь на то, чтобы их осуществить и реализовать. Но оказывается, что они могут быть реализованы только в социальном мире, а не в мире природы. По отношению к миру природы наши желания и мечты возникают только в некие определенные моменты и периоды нашей жизни, а также и жизни самой человеческой цивилизации. Это связано с тем, что мир природы мы не в состоянии изменять, но в состоянии разрушать его. Вследствие того, что мир людей или социальный мир не изменяется по своей сущности, и сути мы стараемся изменить мир природы, осуществляя над ней не процесс познания, а процесс её разрушения. Именно поэтому и вследствие этого, социальный мир не изменяется или же изменяется в худшую сторону. Социальный мир стал такой фатальностью, которая просто тяготит над его же создателями. Вот почему мы стараемся и стремимся утвердиться в социальном мире, т.к. природный мир со своей необходимостью не даёт нам для этого таких возможностей. Неизменность мира природы, точнее сказать, такое наше представление о нем и понимание приводит к тому, что этот мир бесконечен во всем. Поэтому мы можем черпать из него все, что хотим и сколько захотим. Социальный мир мы строим как изменяющийся, но изменяющийся именно так, как мы понимаем изменения, происходящие в мире природы. Поэтому и социальный мир несёт в себе эту фатальную неизменность, происходящую в мире природы. А потому, можно говорить о том, что наше понимание на основе такого представления о мире природы приводит к тому, что социальным мир начинает нести в себе такое же представление. На это указывает механическое представление о мире, которое стало представлением и самого социального мира как некой механической системы. В таком представлении жизнь выступает как некий механизм для реализации желаний и мечтаний в социальном мире. Вот почему мы так упорно ищем механизмы происходящего, не отдавая себе отчёта в том, что такого механизма просто не существует и не может быть. Но, поставив человека как некого создателя, всего существующего и являющегося, мы просто отождествили все это с ним самим, а потому получили и соответствующие представление о самом человеке. Поэтому современный человек есть не что иное, как механическая, техническая и мёртвая система. На это указывает наше движение к созданию искусственного человека, через создание искусственного интеллекта.
Начиная своё движения в познании с простейших представлений о мире, природе и самом человеке мы пришли в итоге к тому, что пытаемся создать самих же себя. Нам почему – то мало того, что это разрешается естественным и природным путём, а потому тешим себя тем, что пытаемся создать ещё и некое своё подобие. Оказывается, все, что мы познаем, мы направляем только пока на одну цель, которой является создание существа не только подобного, но ещё и тождественного нам. Но, как оказалось, даже та минимизация информации, которую мы имеем и можем накапливать в настоящее время в технических, а точнее сказать, информационных устройствах не позволяет нам создать и построить человека, имеющего такие же размеры, какие имеем мы с вами. А потому, уровень информационной минимизации систем говорит нам о том, что решение этой проблемы лежит в открытии и использовании ещё более минимизированных информационных устройств. Хорошо известно, что самой минимальной минимизацией материи является элементарная частица, наделённая размерами, массой и зарядом. В математическом смысле она есть не что иное, как просто точка. Эту точку мы и наделяем теми или иными материальными атрибутами. Поэтому ею является элементарная частица, число, событие, некий факт, бытие, некое состояние в природе или же в самом человеке. Наделяя её атрибутами, мы превращаем её ещё и в некую природную реальность, точнее, считаем самой природной реальностью. Поэтому и говорим об атоме, электроне, фотоне, кванте и т.д. Говоря, например, о социальном мире мы говорим о человеке уже как о минимальном элементе этого мира. Но говоря о самом человеке мы, с необходимостью, ищем тот минимальный элемент, из которого он якобы должен состоять. Оказывается, что найти этот элемент невозможно, а потому невозможно найти и минимальный элемент самой жизни. Оказывается, что такой подход к познанию природы и человека не даёт нам возможности познания ни самой природы, ни человека. Это означает, что такой подход к познанию жизни ни к чему не приводит и не может привести. Более того, этот метод познания был уже реализован через представление жизни в виде противоположностей, которыми являются рождение и смерть. Его открыл и представил миру великий Г. Гегель. В таком представлении жизнь уже представляет собой не что иное, как некие переливы рождения и смерти, как постоянное рождение и умирание. Именно такова диалектика понимания жизни через её предельные и противоположные стороны. Но, как оказывается, она вообще – то касается чисто внешней стороны или внешней динамики, разрывающей лоно жизни на противоположности, которые часто нейтрализуются и переходят в некое третье, которое мы снова связываем с жизнью, но при этом говорим о её неком новом качестве. Это качество хотя и проявляет себя через противоположности, но не является их некой суммой, а потому не может быть из них выделено и определено. Поэтому точечное представление, в частности, самой жизни является приходящим, а потому не является истинным и правильным.
Вся парадоксальность указанных выше представлений связана с тем, что мы не рассматриваем и не изучаем природные реальности в их неповторимой индивидуальности, а наделяем их некими качествами, которые выявили именно в самом человеке. От этого природа не становится такой, какой мы её с вами представляем, а ведёт себя так, что порой нам сложно понять все её переливы и многоликость проявления. Именно поиск некого единого ведёт нас к тому, что в природе и человеке мы ищем это единое и, найдя его, наделяем им все существующее. Но то, что присуще козе вообще – то не присуще корове. Мы же все – таки стараемся найти то, что присуще им обеим, а потому отождествляем их и познаем уже как некую козью корову или коровью козу. Вот наше познание в своём конкретном проявлении и виде. Оказывается, что природа едина именно в своём многообразии, а не в отождествлении этого многообразия ещё и с самим собой. До тех пор, пока мы будем это делать, до тех пор мы будем находиться в лоне некой тотальной всеобщности, а потому и безликости природного многообразия. Более того, при таком познании мы ни на йоту не подойдём к познанию самой природной реальности, т.к. в точечное представление мы можем помещать все, что угодно, а потому наделять её теми или иными абсолютными, неизменными атрибутами. Оказывается, что эти абсолютные атрибуты меняются со временем, хотя наши представления о мире и человеке постоянно меняются, как меняются и сами методы нашего познания. Это связано с тем, что точка принимает на себя все и сама является всем, а потому она не раскрывает нам истинную динамику самой природной индивидуальности, но даёт нам только идеальную природную всеобщность. Почему она идеальна и откуда берётся эта идеальность, мы уже пояснили. Вот отчего так велика наша тяга к познанию самой реальности во всей её полноте и красоте, а не в неком бездумном сходстве, которое к тому же возводится ещё и в лоне некой всеобщности и тотальности. Оказывается, в реальности столь мало сходного, но столь много различного, что пора строить науки не на сходстве, а на её различии. Мы же, только условно делим их на различные, а на самом же деле, создаём их как сходные. Именно поэтому мы постоянно сталкиваемся с тем, что они пересекаются или же просто переливаются одна в другую. При этом мы не понимаем того, что сама наука проявляется именно через генесис (развитие) её отдельных составляющих. Мы же эти отдельные составляющие представляем как некие обособленные и отдельные элементы, а потому стремимся их как – то связать между собой или же просто называем их некой совокупностью. Прекрасное слово, несущее в себе столь бессмысленный смысл в отношении мёртвой или неживой материи. Как будто она способна к некому совокуплению сама с собой. Вот уж поистине прекрасная и глубокая мысль о природе вещей.
Все, что мы представили выше, говорит нам о том, что точка является только формальной, минимизированной, а ещё и материализованной всеобщностью. А потому более простейшими формализованными всеобщностями являются циклы, которые затем сворачиваются в точку и которая начинает нести в себе тот или иной присущий ей атрибут. Заметим, что этот атрибут рождается в результате генесиса самой этой точки, а потому сворачивается в ней в виде некого внутреннего уже только ей присущего качества. Вот откуда элементарная частица имеет не только массу, но ещё заряд, спин, цвет (аромат) и т.д. и т.п. Оказывается, что математика динамики цикла на много проще математики самой точки. Об этом мы будем говорить в своё время и в соответствующем месте.
Ну, а что же жизнь! Оказывается, что в таком представлении жизнь есть множество событий, произошедших с нами. Эти события не связаны между собой, а потому представляются нами как некие локальные точки. Жизнь становится некой суммой (лат. summa – итог), произошедших с нами событий, а потому представляет собой неведомую нами фатальность, выраженную в виде тех или иных случайностей или неожиданностей. Жизнь как некая цикличность есть уже понятая в прошлом жизнь, а потому, позволяющая определить и некое её новое качество в будущем. Но не будем пока спешить, а отметим, что жизнь, как и все существующее, требует для своего познания некого нового представления, а потому и некого нового метода познания. Говорить о системном представлении жизни вряд ли уместно, т.к. до сих пор системное представление хотя и существует, но имеет непосредственное отношение к техническим системам или же системам, которые могут быть отождествлены с ними. Жизнь не попадает под систему, хотя с некой долей условности её можно считать системой. Хотя само представление о системе существует, но до сих пор соответствующей ей метод познания так и не был построен, хотя многие стараются подвести под неё старый математический аппарат, который был создан для объяснения и описания точечно – минимизированных познаваемых. Мы будем говорить о системном представлении жизни, а сейчас обратимся к пониманию и понятию жизни. Рассмотрим жизнь как некое понимание и как некое понятие и соотнесём с тем, как происходит именование того, что мы и называем жизнью.
1.3. Понимание и понятие жизни.
Говоря о понимании и понятии жизни нам необходимо их различить, т.к. часто понимают совсем не то, что содержит и несёт в себе то или иное понятие или имя. Оказывается, что понимание очень тесно связано со временем, а потому в различные времена понимание жизни было также различным. Точнее сказать, саму жизнь связывали с тем или иным благом – материальным или духовным. Наше время также не лишено этой интенциозности (Интенциональность (от лат. intentio «намерение») – понятие в философии, означающее центральное свойство человеческого сознания: быть направленным на некоторый предмет.) и некой определённости этих понятий и имён. Так, например, многие связывают жизнь с деньгами, а потому говорят, что жизнь есть деньги. Ведь, обладая этим посредником, между миром людей и миром вещей человек имеет безграничные возможности иметь все, что захочет и все, что пожелает. Именно поэтому в основу понимания жизни многие из нас полагают именно и только деньги. Другие же полагают счастье, а потому отождествляют с ним и саму жизнь. Так возникает некое множество понимания самой жизни, основанные на том или ином её видении человеческой индивидуальностью. Это порождает, как оказывается, ещё и множество её определений. Определение несёт в себе не что иное, как то, с чем мы отождествляем жизнь или же то, что для нас пока является непонятным и неясным. А потому это “чем” является уже неким объектом. Так и жизнь мы часто отождествляем с тем, что считаем объективным и существующим. В таком отождествлении жизнь становится сама объектом, несущая в себе только некую объективность от того, с чем мы её отождествляем. Эта объективность действительно принимается нами как существующая, хотя часто является чисто субъективной, фантастической, абстрактной или же магической. Так даже саму субъективность мы возводим в лоно объективности, сворачивая её в виде того или иного понятия. Это связано с тем, что мы не определили саму основу, которую полагаем в то или иное понятие, сворачивая тем самым в нем наше понимание. Вот почему мы говорим о понятии и понимании, т.к. в основе понятия лежит именно понимание, но уже, покоящееся на том или ином основании, которое к тому же ещё и составляет основу самого нашего познания. Оказывается, что в основу познания мы полагаем либо наше чувство, либо разум, а, потому, часто не осознавая этого полагания, мы нарушаем простую логику “конструирования” самого понятия. Нарушение её приводит к тому, что понятия превращаются в пустые формы, не несущие к себе никакого представления, не говоря уже о той сути и смысле, которые в него вкладывают. Эти формы есть не что иное, как простейшие и чисто формальные термины. Вследствие чего термины являются носителями только форм объектов, точнее сказать, внешне выраженных сторон объекта, которыми мы их к тому же ещё сами и наделяем. Это означает, что под понятие жизни подводится “все, что угодно”, поэтому в этом “все, что угодно” исчезает суть и смысл самой жизни, а потому и сама её сущность. Но, как оказывается, между сутью или смыслом и сущностью жизни есть различие, которое мы должны понимать. Суть и смысл несут в себе то или иное основание, а сущность только утверждает её как некое суще, просто как существующее. Вот почему мы подводим под жизнь некое многообразие её сторон, потому что не можем выявить и выделить в ней некого присущего ей основания. Более того, если даже и выделим его, то нам, с необходимостью, придётся иметь дело ещё и со всем тем, что считаем познаваемым, а потому наделять и его этим основанием. Основание необходимо для того, чтобы понять суть и смысл, а потому и сущность самой жизни, исходя именно из этого основания. Мы же, часто не указываем основания, а потому и подводим под то или иное понятие, то, что “понимаем”. Оказывается, что часто под него мы подводим именно то, что не понимаем, но по каким – то причинам считаем, что все – таки понимаем. Понимать, оказывается вообще – то не означает простого различия некого одного по отношению к другому. Ведь, мы можем просто внешне различить их и наделить этим различием как одно, так и другое. Так мы приходим к некому отождествлению различного, наделяя их обоих тем, что, быть может, вообще не присуще одному из них. Но этого требует само отождествление, а потому мы понятие определяем часто именно через этот, присущий познаваемому признак. Более того, именно через него мы и определяем само понятие. Поэтому наши понятия имеют либо чувственную, либо разумную основу. В современных науках их часто сводят к статическим и динамическим понятиям. Одни понятия отражают статику познаваемого, а другие – его динамику. Но, отражая статику и динамику познаваемого, они все равно несут в себе либо чувственное, либо разумное основание. Но в силу того, что чувственное и разумное со временем приобретают своё собственное многообразие, они перестают играть роль прежних оснований, т.к. требует для своей определённости неких, присущих именно им самим оснований. Так мы снова отправляемся на поиск оснований им присущих, а потому возвращаемся, к тому, что или кто их порождает. Этот возврат связан с полаганием того, что уже было положено, а потому часто вуалируется некими новыми именами, либо с тем, что ещё не выявлено в самой природе познающего. Оказывается, что мы избрали второй путь, хотя первый – является преобладающим.
Укажем, что декартовская телесность есть не что иное, как выделение в познающем неких оснований, которыми стали сама телесность и разум или мышление. Телесное делимо, а разумное нет, а потому может быть взято в качестве основания нашего познания. Именно под него Р. Декарту удаётся подвести математику, а затем построить свой дедуктивный метод познания. Но мы не отвлекаемся от основной темы изложения, а просто привели один из примеров оснований нашего познания, чтобы показать его неразрывную связь с самим нашим познанием. Это показывает ещё и то, что основания нашего познания являются тем, через что и с помощью чего мы строим сами понятия и подводим под них то или иное понимание. Оказывается, что это понимание составляет то или иное основание самого нашего познания. Нет основания нет и понимания, а потому есть либо мнение, либо суждение, либо некое простое представление о познаваемом. Можно мнить себе что угодно, а потому судить и представлять себе это, что угодно, уже, как угодно. Поэтому в понятии мы часто встречаем именно с этими топосами человеческой интенции. Оказывается, что в наших понятиях мы часто сталкиваемся с отношениями, которые существуют между людьми. Ими мы наделяем и само познаваемое, превращая его в некое подобие человеческого существа. Именно такое превращение уводит нас от истинной природы познания самого мироздания. Мы познаем уже некие отношения между элементами мироздания, отождествив при этом их с самими отношениями между людьми. Но чтобы это отождествление не было буквальным, мы снимаем его путём введения других имён этим отношениям. Так и само мироздание превращается в мир людей, в котором также существуют некие отношения, называемые уже взаимодействиями. Введение отношений привело к тому, что в самом мироздании мы стали наблюдать и некие отношения между существующими в нем телами. Особенно ярко отношения проявляются в виде неких связей в системном представлении мироздания, поэтому сами связи часто носят чисто субъективный характер.
Основу самих отношений несёт в себе некое субъективное начало, которое полагается нами в виде некого качества самой жизни. Поэтому это качество часто берётся как некое чисто внешне, присуще тому или иному познаваемому, особенность или признак, в которые примешивается ещё и наше отношение, проявляющееся в виде – нравится или не нравится, хорошо или плохо, красиво или не красиво и т.д. и т.п. Именно это наше внутреннее отражается, а то и просто растворяется в познаваемом, составляя тем самым наше понимание самого познаваемого. Эта сторона, как оказывается, часто становится преобладающей, а потому мы подводим под понимание чисто то, что для нас является наиболее важным в жизни. Оказывается, что понять жизнь не есть заменить её неким другим понятием или же определить её через нечто другое. Жизнь как любое понятие требует своего собственного основания, которое позволило бы нам объяснить и понять её. А потому говоря о философии жизни нам необходимо решить вопрос о том, как мы мыслим саму жизнь и почему мыслим её именно так, а не как – то иначе. И вот, оказывается, что если мы представляем жизнь как некое множество точек – событий, то тогда жизнь есть некий миг или мгновение, в котором мы находимся в состоянии живого. Это означает, что живое и жизнь очень тесно связаны, и разделить их порой очень сложно. Но в лоне живого мы можем определить, что есть жизнь, противопоставив её неживому. Именно по отношению к неживому, мы определяем, что есть живое и жизнь, а без него как понятие живого, так и жизни становится просто бессмысленными.
Возвращаясь к философии, мы констатируем, что философии принадлежит только то лоно, в котором мы мыслим именно так, а не иначе. По отношению к жизни философия выступает как то, что позволяет нам её мыслить именно так как мы её и мыслим. Вследствие того, что лону философии принадлежит метод мыслимости того, что мы берём в качестве познаваемого. Взяв в качестве познаваемого жизнь, мы, с необходимостью, говорим уже о философии жизни. А т.к. основу нашей мыслимости составляет метод познания, то говоря о философии, мы говорим ещё и о методе познания, который и должна нам дать именно философия. Поэтому именно с точки зрения метода познания, как некой мыслимости, мы говорим и о самом познаваемом. В лоне философии жизнь становится уже философией жизни, а потому, с необходимостью, мы должны рассмотреть её с позиции методов философии. Оказывается, что в лоне философии существуют множество представлений, но они не являются её некими логическими “конструктами”. Они есть некое утверждения тотально полагаемого познаваемого или же некой, присущей ему атрибутивности. Последнее есть не что иное, как формальная сторона познаваемого.
Понимание хотя и связано с тем или иным представлением, оно все – таки несёт в себе некий смысл и суть познаваемого, а потому выражается в том или ином понятии. Основу понятия составляет ни что иное, как имя познаваемого, которым мы наделяем его с целью конкретизации и отличия от других именованных сущностей. Неся в себе некую суть и смысл, имя становится понятием, переходит в понятие, т.к. становится уже понимаемым именем. Оказывается, что само имя уже, с необходимостью, несёт в себе некую суть, а потому и некий смысл, содержит в себе некое понимание, свёрнутое в понятие и наделённого именем. Поэтому как имя, так и понятие являются формальными атрибутами нашего познания. Постигая реальность и природу через имя, и понятие мы формализуем их, а потому, идеализируем само познаваемое, превращая его уже в некий объект познания. Так мы поступаем и с субъективностью, возводя её в лоно тотальности и идеальности, и помещаем его ещё и в лоно объективности. Такой путь в познании позволяет нам стать над реальностью и природой, позволяет нам превратить их в идеальное и объективное, а потому мы теряем истинно природное и не осуществляем его познание. Так, введя в лоно познания точку и наделив её различными атрибутами, мы стали познавать не реальную, первозданную природу и её изменениям, а некую идеальную, так называемую вторую природу. Все существующие работы по различным областям знания, пестрят этими идеальными, фантастическими и мистическими импровизациями человеческого разума, а природная реальность так и остаётся нами не познанной. Говоря о жизни, как об имени и как о понятии мы просто не можем понять, в чем их кардинальное различие. Конечно, мы можем различить их чисто субъективно, но от этого не углубимся ни на “толику” в саму суть и смысл имени или понятия. Поэтому, с необходимостью, возвращаемся к качествованию познаваемого, несущего в себе некие именования и понимания. Именованное и понимаемое выступают как некие стороны уже не самого познаваемого, а того, что мы над ним совершаем или уже совершили. Именовать – значить дать имя, а понять – значить подвести подо что – то уже известное нам. Известным для нас является ничто иное как имя. Вот мы по кругу гоняем имена и понятия, заменяя одно другим или же просто называя тоже самое познаваемое уже неким другим именем или понятием. Оказывается, что этот круг размыкается лишь тогда, когда мы отыскиваем некие новые основания самого нашего познания или же строим некий новый метод “мыслимости” того, что уже познали. Этот путь позволяет нам на некое время привести познанное к определенному порядку, чтобы увидеть через него все то, что нас интересует и все то, что мы познали. Именно его мы и оформляем в виде различных учений, теорий, концепций и т.д. и т.п., а потому выражаем его в виде тех или иных категорий, понятий, суждений, умозаключений и т.д. Имя же не требует к себе такого отношения, а потому ему не требуется некий или же хоть какой – либо “мало-мальский” порядок. Оно несёт в себе тот порядок, который на данный момент имеет сам познающий или же просто человек. Но в силу того, что мы столь плохо знаем себя, а точнее, скрываем себя от самих себя, то этот порядок нам просто неведомо, а потому мы его просто не знаем или же не обращаем на него должного внимания, поэтому и обозначаем все окружающее нас тем, что даём ему (окружающему) различные имена. Так одно имя с течением времени наслаивается на другое, а другое на третье и т.д., пока не возникнет некий “клубок”, который мы можем назвать “хаосом” имён и понятий. Много имён у одной и той же природной реальности. В этом множестве её имён мы начинаем просто гибнуть, т.к. замечаем, что некоторые имена не несут в себе ничего, присущего тому или иному познаваемому. Игра именами и понятиями привела к тому, что наше познание свелось, в настоящее время, к играм в виртуальные миры, которые создаются с помощью компьютеров и компьютерных систем. Мы стали играть не в познание с реальностью, а в игры с нашей собственной идеальностью, тем самым, замкнув процесс познания на игры с машинами подобными нашему мозгу. Мы играем уже со своими собственными мозгами, считая при этом, что о самой реальности мы уже все знаем. В этой игре мы даже не можем помыслить себе того, как она влияет на окружающий нас мир. Ведь наука уже давно открыла, что кроме материальных процессов, в мире протекают процессы, связанные с обменом энергией. Эту энергию мы не всегда умеем фиксировать, кроме того, не всегда можем её и регистрировать. Но если не регистрируем то, это вообще – то не означает, что её просто нет. Наш мир рождается и умирает, совершая постоянные переходы от энергии к материи и от материи к энергии. Это есть не только бесспорный факт, но ещё и научно доказанный факт. Игра с энергией тем более с той, которая для нас является несуществующей очень опасная затея. Она ещё пострашнее, чем игра с материальной (регистрируемой) энергией, потому что мы её просто не изучаем, отбрасываем как некую несущественную составляющую, а потому и ничего о ней не знаем. Так, по всей видимости, случилось и с познанием жизни, которую мы также считаем некой несущественной добавкой к космическим процессам, а потому просто от неё абстрагируемся. Поэтому о жизни, мы ничего не можем сказать, кроме того, что все есть жизнь и жизнь есть все.