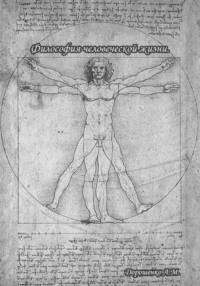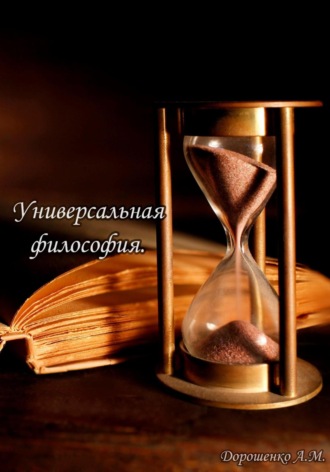
Полная версия
Универсальная философия
1.2. Познаваемое и познающий.
Прежде чем говорить об основаниях философии нам необходимо рассмотреть, что собой представляют познаваемое и познающей. Ведь без рассмотрения их мы не можем понять, кто, что, а также ещё и то, как мы осуществляется и само наше познание. А потому обратимся сперва к познающему, а уж затем рассмотрим и само познаваемое. Оказывается, что познающий выступает в двух качествах: одним из них является то, что он может быть познающим, а другим – то, что он может выступать и как познаваемое. Если говорить более точно то, в один и тот же момент времени он является как познающим, так и познаваемым. Именно в этом состоит некий парадокс, рождаемый в лоне и самого нашего познания. На протяжении многих веков человечество решало проблему познания окружающего мира и человека в нем, но не обращало достаточного внимания на этот парадокс, а также и на возможности его разрешения. Оказывается, что мы всегда считаем себя только познающими. Но при познании себя мы, с необходимостью, переходим и переводим себя ещё и в познаваемое. Поэтому нам необходимо ответить на первый вопрос, который нам даст понимание того, как познающий познает именно себя. Оказывается, для решения этой проблемы есть только один способ, который состоит в использовании познающим своих органов чувств которыми являются: глаза – зрение, нос – запах, тело – тепла, уши – слух, рот – вкус. Для познания мы, оказывается, в основном используем только тело и глаза – зрение. Пока не будем решать вопроса о том, как они у нас появились, но по всей видимости, не только для познания.
Если мы, бросим свой взгляд на зарождение философии то обнаружим, что такая проблема действительно не стояла перед теми, кто её разрабатывал и создавал. Они решали совсем другую проблему – как познать именно само познаваемое. Познаваемое для них являлось чисто внешним, отстранённым, а отсюда не моим, чужим или просто чьим – то чужим. Оказывается, что именно такое отстранение, является и выражает собой основы любой философии. Ведь, человек познавая мир познает ещё и самого себя. То, что он положит в основу своего познания, точнее сказать, само это полагание, оказывается является ничем иным как метафизикой. Но одно дело, что полагается для познания, а совсем другое – это то, как он его осуществляет, как познает через это полагаемое или же уже положенное им. А посему то, что полагается является, а ещё и выступает как онтологическое основание познания, а то, как познаётся выступает уже как его методологическое основания. Отсюда следует, что с онтологическими основания мы должны представлять ещё и сам метод познания – методологические основания. Именно это мы обнаружили и выделили в истории развития философии, философских представлений, учений и систем.
Можно сказать, что познание направлено на познаваемое и потому является уже метафизикой самого познаваемого. Но если познание направлено на познающего то, это уже будет метафизика познающего. Первую называют метафизикой природы, а вторую – метафизикой человека. Отсюда все философские представления, учения и системы строятся исходя из этих метафизик, основой которых является все – таки сама метафизика человека. Метафизика человека составляет самое первое, главное основание, в отличие от метафизики природы и метафизики познаваемого. Метафизика, познающего поэтому есть наиреальнейшая и фундаментальнейшая философия.
Познающий находится в позиции познающего, того, кто осуществляет познание, но может находится ещё и в позиции познаваемого, как того, что познаётся. Мы уже указывали, что для своего собственного познания, используем только то, что есть в нас самих. Это что, оказывается, имеет две ипостаси. Одна из них это та, которую мы видим, а другая – та, которую мы не видим. Видимое мы можем рассмотреть, описать, назвать и определить именно по отношению к тому, что мы не видим или просто считаем невидимым. В этом состоит, а также хранится огромная тайна того, как мы осуществляем само наше познание. И потому мы идём на познание того, что для нас видимо и изучаем именно его. Далее, мы даём имена и названия этому видимому, определяем его состав, структуру и строение, а также ещё и элементный его состав. Но можем ли мы считать и говорить, что невидимое состоит именно из таких же элементов. Оказывается, что нет. Потому что мы их уже не видим в нем. Так мы можем использовать свои руки, применяя их для познание своего тела, которое является видимым нам. Так ощупывая себя, мы обнаруживаем, что в нас есть некие составляющие – мягкие и твёрдые ткани. Твёрдые ткани имеют некий другой вид. Таким способом мы можем определить своё внутреннее строение, не заглядывая внутрь тела. Определить, например, то, что называется скелетом, костью и, даже, составить их некий визуальный вид. Но заметим, что эта их определённость стоит не на осязании, на том, чем и с помощью чего видим, а именно на ощущении рук, которое производим путём ощущения своего тела. Тем самым мы можем представить и понять то, что для нас является невидимым. Таким способом мы можем очень многое открыть в строении нашего тела и самого организма. Но кроме этого познания, мы познаем ещё и свой внутренний мир. Но как мы это делаем? Здесь мы сталкиваемся с тем, что невозможно понять нашими органами чувств внутренний мир человека. Глаза могут воспринимать только то, что вне нас, но не могут помочь нам, если мы проникаем за границу нашего тела. Там они ничем нам не смогут помочь. То, что внутри нас “видят” наши чувства, называемые ощущениями и связаны, скорее, не с руками, а с нашими некими состояниями и, более того, они вообще – то не сводимы к ним, а являются нашим состоянием, которое мы называем внутренним чувством. Отсюда следует, что ощущения являются выражением наших чувств, которые принадлежат только нашему телу, точнее сказать, его форме и вследствие этого, все органы ощущений располагаются на внешней оболочке нашего тела. Отождествления чувств и ощущений привело к их простому отождествлению, которое, как вы теперь понимаете, связано и с отождествлением чувств просто с самими нашими органами чувств. Но мы говорим о чувстве как о некоем нашем внутреннем состоянии, которое связано, скорее, не с неким внешним воздействием, а с рождающимся в нас отклике на него. Эти чувства создают у нас страх, любовь, ненависть, жалость, страдание и другие состояния. Поэтому не следует путать внешние чувства с внутренними чувствами, т.к. их отличие весьма значительное, а потому их отождествление уже просто невозможно и неправильно. Поэтому под чувством правильнее будет понимать именно некое состояние человека, а не его ощущения, которые связаны уже непосредственно с самими органами “чувств”. Чувство мы взяли в кавычки, потому что так принято называть и говорить о самих ощущениях. Мы же будем иметь в виду, что ощущения есть ощущения, а чувство есть некое внутреннее состояние человека. Отметим, что это так важно, что мы привели вам некие разъяснения и пояснения по поводу нашего понимания чувств, органов “чувств” и ощущений.
Мы выступаем как познающее, являемся ещё и познаваемым. Где же кроются различия познаваемого и познающего? Где мы различны? Если мы смотрим на себя, то выступаем в роли познаваемого или познающего? Оказывается, в роли познающего тогда, когда смотрим на самих себя. Если не смотрим, то являемся уже познаваемыми. В этом лежит самое важное и ответ на то, как мы осуществляем своё познание. Отсюда следует, что мы познаем только потому, что у нас самих есть. Оно и составляет основу нашего познания и ими являются глаза и руки, органы “чувств”, но для этого нам необходимо ещё фиксировать глазами то, что называем, а затем и полагаем уже в качестве познаваемого. Мы по своей природе, являемся познающими. Именно в этом наша природа, но ещё и некая наша отличительная особенность от всего существующего живого. Хотя этим обладает и все живое, мы считаем, что оно все – таки не познает. Оно не имеет этой способности. Но мы не можем принять тот факт, что простое наличие у нас глаз уже приводит к познанию. Ведь они есть и у многих других живых существ, а потому и они может быть тоже обладают некой способностью к познанию, хотя и отличной от человеческой способности. Мы же это познание живой зрячей материи свели только к тому, что она их использует только для охоты и добычи пищи. Но, это, как оказывается, присуще и человеку. Ведь многие из нас используют эту способность, как её использует живая природа. Нам необходимо понять объективность в таком поведении природы, а не заниматься импровизациями мыслей по этому поводу. А потому будем говорить, пока только о нас как о познающих и о том, что мы познаем на самом деле. Можно ли углубиться в самих себя, считая себя познаваемым и познающим? Да! Это можно сделать, если перейти к познанию себе подобных. Если этого не сделать, то тогда наше познание просто закончится и вот почему. Можно определить и познавать из чего мы состоим, но уже, как бы, осуществляя это не своими глазами, потому что в этом состоянии мы не можем полагаться на них, и более того, их у нас в таком полагании просто нет. Современная наука добилась больших успехов в изучении тела человека, его состава, структуры, а ещё и того, как он работает и для чего служит. Но она знает мёртвое, а не живое тело, поэтому она бессильна перед живой природой и живым человеком. Операции по пересадке органов не дают результатов, хотя и бывают довольно успешными. Они не дают человеку того, что он от них хочет – иметь продление своей жизни. Проблема создания и изготовления эликсира жизни также не увенчалась успехом. Более того, анализ самой жизни показывает, что у нас есть долгожители, которые живут в два раза больше средней жизни человека. Но никто этот опыт достаточно вразумительно не изучил, а потому его до сих пор так и не внедрили в медицине.
Внутреннее строение человека не схоже с его внешним строением. Это легко определить с помощью зрения и органов чувств. Но зрение и руки внешние, тогда, как же мы можем познавать самих себя. Зрением – внешнее в себе, а руками – внутреннее в себе. Но внутреннее мы также можем понять зрением, потому что у нас есть внутреннее зрение, называемое чувствами, которое мы не должны отождествлять с ощущениями. Человек познает всеми имеющимися у него “чувствами”. Мы же просто выделяем из них основные и считаем его, в тот или иной момент времени, основным уже и в самом нашем познании. Когда мы говорим о познании греческих мыслителей и о познании, которое представил человечеству Р. Декарт, то отличие их, которое состоит в том, что они брали в качестве основания познания то или иное чувство. Греки брали чувственные состояния человека – чувственный мир человека, который возникал по отношению к миру и космосу, а также к самому себе или же к подобным себе. У Р. Декарта происходит смещение на зрение, на зрительное ощущение, которое он называет разумом. У греков это связано с воздействием мира на человека, с состоянием, которое рождается внутри человека – с “невидимым” чувством. Мы же это просто называем чувством. Поэтому философы говорят, что греки познают мир чувствами, а после Р. Декарта – стали познавать мир уже разумом. Чувство и разум есть лишь различные состояния человека, некие две различные позиции по отношению к познаваемому. Если мы этого не поймём, то нам никогда не понять, как мы познаем и почему в одно и тоже время являемся как познаваемым, так ещё и познающим. Для чего же нам необходимо такое деление? Проявлением чего они являются? Ведь если мы находимся в положении познающего, то тогда чтобы что – то познать нам необходимо его зафиксировать, остановить на нем свой взгляд. Мы должны зафиксировать познаваемое. Оказывается, что в первую очередь оно вызывает у нас чувство, а уж потом включается и разум, обнаруживающий себя видением и фиксацией только его внешнего вида. Но если зрение подвижно или же мы водим глазами, то у нас снова возникает чувство. Если же остановим взгляд, то начинаем вникать в познаваемое, рассматриваем и изучаем его. Зрение в движении рождает у нас чувство, остановка зрения приводит к появлению разума. Вот для того, чтобы что – то понять и познать разумом мы должны остановить или же просто умертвить познаваемое. Разум требует этого, чувства же требуют движения и именно в нем они находят своё выражение. Здесь можно сказать, что разум просто становится бессилен. Вот тогда он отказывается от познания или же мы просто можем говорить о познаваемом только то, что оно вызвало в человеке, просто изменив его состояние.
Из представленного выше анализа мы можем заключить, что познающий сам выступает как познаваемое и как познающий. Познающий, выступая как познаваемое, может осуществлять познание с помощью чувств, а может его осуществлять и с помощью разума. А потому обратимся к познанию чувствами и разумом. Пока будем рассматривать только познающее, считая, что он может выступать ещё и в качестве познаваемого. Начнём с чувственного познания и представим все, что можно получить в результате его применения, а также ещё и то, что, но есть такое.
1.3. Чувство.
Говоря о чувстве, под которым мы подразумеваем и понимаем, скорее, их некое многообразие, а не только какое – то отдельное чувство, нам необходимо определить, что они есть такое, а также ещё и то, на что они направлены. Ведь каждому из нас хорошо известно, что чувств у нас превеликое множество и выражаем мы их в зависимости от той или иной ситуации. Если мы говорим, что такое чувство, то это одно, если ли же мы говорим о том, как с их помощью можно осуществлять познание, то это уже совсем другое. Но самое удивительное, что мы говорим и о том, и о другом одновременно. Оказывается, что одно дело познавать чувством, а совсем другое – определить, что оно есть такое. Когда мы познаем чувствами, то у нас возникает представление о том, что мы можем познавать не только то, что является их носителем, но все то, что является отличным от нас. Тогда нам необходимо понять, что мы требуем от познаваемого, не того же обладания и наличия у него чувств, какими и мы сами обладаем. Познавая с помощью того или иного чувства, мы наделяем им и само познаваемое. Оказывается, что мы можем и не наделять его этим чувством. Приведём одну из дилемм, связанную с самим человеком. Он познает космос с помощью того или иного чувства. Тогда он, с необходимостью, должен наделить его этим же самым чувством. Если, например, чувство страха трансформируется на космос, то космос становится также чувственным, а потому и несёт в себе этот страх и становится ещё и его обладателем. Он, с необходимостью, будет вызывать у нас это чувство страха. Если же мы не наделили его этим чувством, то тогда страх остаётся только у нас и с нами, а потому мы уже познаем не чувственно, а как – то по – другому, иначе. Чувство страха мы взяли в качестве примера, но так оказывается обстоит дело и с любым чувством. Но совсем другое, если мы рассмотрим само познаваемое, которое отлично от космоса. Вот тогда мы и ставим вопрос о том, что это за чувство и откуда оно у нас берётся. Как ответить на этот вопрос? Ведь тогда мы будем знать, что это за чувство. Оказывается, что мы идём на то, что превращаем человека в сами чувства, рассматривая их с точки зрения метафизики, но при этом, рассматриваем ещё и его самого. В метафизике наше понимание строится на основе деления целого, для данного случая чувства также подвергаются делению на некое множество чувств. А потому нам уже необходимо их объективизировать, найти носителя, объект, который его вызывает или создаёт. Парадоксальность этого состоит в том, что этим объектом является именно сам человек. А если это сам человек, то понять чувства можно только вынося их во вне, в пространство, а потому чисто метафизически. Если этого не сделать, то мы остаёмся как бы в самости чувств, которые проявляются в виде различных эмоций и реакций на то, что воздействовало их у нас. По ним мы можем определить какое чувство у нас возникает. Хотя чувства существуют внутри нас нам необходимо их выносить для того, чтобы понять, что они есть такое. Вот почему вынесенные чувства называют ощущениями, которые являются и выступают уже как некие аналоги самих наших чувств. Поэтому нам необходимо выделить внешние и внутренние чувства, по отношению к самому человеку. Заметим, что человек выступает в роли познаваемого, хотя он в тоже самое время является ещё и познающим. Так в нас познаваемое и познающее отождествляются, а потому выделить, что есть одно, а что есть другое, порой бывает очень трудно и даже невозможно. Но объективность самого человека приводит к тому, что чувства направляются на внешние объекты, несущие в себе материальность, являющуюся ещё и некий видом их объективизации, а потому и самой объективности. Они есть уже материальные чувства, которые принято называть ощущениями. Кроме них есть ещё и внутренние чувства, которые современная наука определяет как мистические, магические чувства. Вследствие чего они ею вообще не рассматриваются. Именно здесь и лежит основа, которую положили греческие мыслители в основу философии, в смысле её определения как науки. Философия как любовь к мудрости не может быть сведена к внешним определителям и просто определённости человеческих чувств. А потому чувственное познание и представляется на пространстве, да ещё так, что само пространство снимается по мере их изучения. Вследствие чего мы видим только изучаемое, которое является к тому же ещё и метафизическим познаваемым. Мы идём на непоправимую ложь, когда полагаем в пространство познаваемое, а затем это пространство убираем, используя тотально “голые” утверждения и формы, содержание в которых нет, при этом оставляем только его имя или имена. Оказывается, что и имя не всегда отражает и несёт в себе содержание самой формы познаваемого. Вот почему мы такие формы считаем тотальными, абсолютными и неизменными во всем и на все времена.
Ощущения есть механическая выраженность наших чувств. Так ощущение тепла и холода вызвано тем, что мы чувствуем их, потому что сами являемся тепловыми механизмами и машинами. Отсюда и поэтому мы можем изготовить устройство, которое и сможет его определять. Это и привело к возникновению первых термометров, а затем и градусников, используемых в медицине. Оказывается, что зрение назвать ощущением мы не можем, потому что видим предметы, не касаясь их непосредственно глазами. Отсюда следует, что сами объекты вызывают у нас ощущения, только тем, что просто воздействуют на нас простым самим своим существованием. У нас есть органы чувств, связанные с нашей материальностью – телом, но есть и такие, которые не связанны с ней и с самим нашим телом. К ним относятся: красота, вера, истина, любовь, мудрость и т.д. Являются ли они чувствами или нет? Но то, что это не ощущения очевидно. Но мы можем говорить, что красота связана с ощущением того, что называется красотой, но не все видят красивое в красивом, но у всех возникает это чувство. Тоже касается любви, веры, истины и т.д. Из всего этого следует, что чувственное познание связано с тем, что мы выступаем как единое, целостное, как познаваемое и как познающее. В чувствах познаваемое связано с тем, что мы наделяем его внешними чувствами, а познающий как познаваемое – внутренними чувствами. Ведь для познания нам необходимо выделить себя из познаваемого, с целью его познания. Если же мы этого не сделаем, тогда сможем просто описать его. Это описание будет очень субъективным, идеальным и несоответствующим самой природной реальности или даже самому познаваемому. Вследствие этого каждый познающий будет понимать его по – своему, а потому по – своему его ещё и определять, изучать и познавать. Это приведёт к тому, что наука станет представлять собой огромную груду мнений, среди которых могут быть и правильные мысли. В них уже не будет познающего, потому что такие мысли не представлены в универсальном виде, не имеет формы, которую мы можем принять и понять. Вот почему из науки чувственное познание было полностью устранено и отброшено, вследствие чего наступило полное торжество разума. Чувства есть всего лишь мгновения, миги, которые мы не можем зафиксировать, а тем более ещё и определить их. А раз не можем этого сделать, то заниматься ими едва ли имеет какой – то смысл. Но мы себя все равно снова и снова спрашиваем, есть ли чувственное познание или нет? Если оно есть, то как с его помощью можно познавать. Ответ на этот вопрос лежит не в рамках познаваемого и познающего, а в рамках существования самого человека. Эта проблема настолько сложна, что решить её в рамках существующих представлений просто невозможно и нельзя.
Мы просто представили вам попытку развести познаваемое и познающего в рамках существующих представлений о человеке и показали, что решить её невозможно, потому что, беря человека как познаваемое мы, с необходимостью, ещё и углубляемся в себя чтобы стать познающим или же вынесем себя во вне, а потому и ставим себя уже в некое отношение и к самому познаваемому. Но в одном случае мы можем только описать познаваемое, если находимся внутри его, или же познать его как объективное, если уже находимся по отношению к нему во вне – в другом случае. Третья возможность есть отсутствие как познаваемого, так и познающего, в котором мы представляем все человекоподобным и очеловеченным. Других вариантов здесь нет, а потому определим их как два пласта или слоя самого нашего познания. Первый есть ничто иное как анализ, т.к. мы находимся во вне по отношению к объекту, можем его делить, дедуцировать, математизировать, минимизировать и материализовывать. Находясь внутри, мы стараемся собрать объекты, интегрируем, синтезируем их вследствие того, что сами являемся целостностью, представляем собой ещё и некое целое. Это не есть методы познания, а есть наша способность к познанию, которая отражается в делении целого на части, а ещё и в виде синтеза этих частей. Оказывается, что эти два способа существуют в неразрывном единстве, поэтому порой нам сложно судить о том, что у нас выступает в качестве анализа, а что является только синтезом.
История развития философии и философских представлений показывает, что мы направили своё познание на дедукцию, разделение философии на множество философий, которые, в настоящее время, приняли форму различных направлений и в самой философии. В настоящее время философия распалась на множество частных направлений, в которых она как некая целостность просто умирает. Но кроме смерти существует ещё жизнь. Именно она то и синтезирует, а не умерщвляет, как это делает и осуществляет анализ. Но и этот синтез не даёт нам живого тела философии, т.к. осуществляется путём соединения частей, образовавшихся в результате проведённого нами анализа. Вследствие этого настоящее время есть время рождение новой философии, основанной на выделении новых оснований нашего познания, а ещё и новой методологии познания. Этими основаниями могут выступать и являться пространство и время. Хотя они и родились в рамках количественного познания мира и человека, но обладают некими только им присущими качествами. Если не выделять эти качества, то тогда мы останемся в рамках философии И. Канта. Если же мы зададим их, то получим совсем другой смысл пространства и времени, а отсюда и возникают из некие другие качества. Они уже не могут быть только формами чувственного созерцания, а являются универсалиями, самыми первыми основаниями познания всего, включая в себя и познание самого познающего. Этими их качествами являются информационность и энергийность. Пространство информационно в том смысле, что именно через него мы познаем, выявляем и узнаем информацию о познаваемом. Время же энергийно, потому что через него мы понимаем, как происходит изменение и эволюция жизни на основе энергетических превращений, которые мы ещё связываем со временем. Эти качества позволяют раскрыть, изучить и понять как познаваемое, так и самого познающего. Именно в этом они едины, тождественны, различны, а ещё и неразличимы. Об этом мы ещё будем говорить, а сейчас вернёмся к чувствам и рассмотрим подробнее эти три возможных варианта. Рассматривать их будем как с позиции познаваемого, так и позиции познающего, а также ещё и со стороны, присущих им взаимоотношений. Раз человек познает мир, то начнём с него, рассматривая только его чувства. Для этого положим его в пространство как некую метафизическую тотальность. В этом случае человек превращается в информацию, и мы можем путём деления на части познать его. Но, оказывается, что мы познаем не его самого, а его чувства, которые в пространстве превращаются уже в ощущения. И вот их то мы и полагаем в материю. Так у нас возникают механические, пространственные аналоги ощущений, которые мы визуализируем с помощью материи, помещённой в пространство. Это приводит к тому, что таким образом мы переводим чувства в материю, создавая механизмы, приборы и машины уже из неё самой. Но изготовление и конструирование не есть только прерогатива чувств и ощущений. Ведь нам необходимо путём комбинирования частей материи создать устройства, которые бы воспроизводили ещё и то или иное ощущение. Итак, мы пришли к тому, что чувства и ощущения порождают у нас то, что вообще – то ими не является. Об этом мы будем говорить далее.