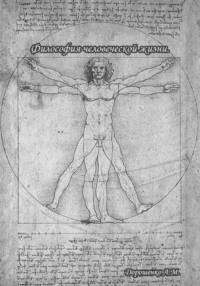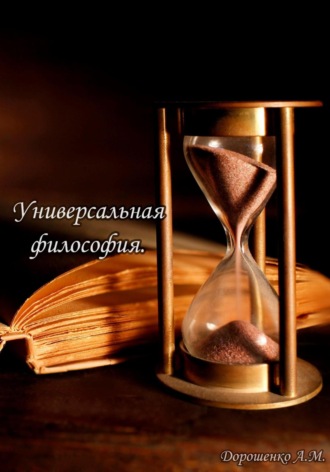
Полная версия
Универсальная философия
Впервые именно Сократ выявляет и выделяет в себе некого “даймона”, который ведёт его по пути познания. Этот “даймон” не даёт ему возможности отступить от себя и от того, что он проповедует. Он гармонизирует с Сократом, а потому просто тождественен ему. Поэтому он не отвергает его, а постоянно к нему прислушивается, как бы живёт в нем и с ним. В своём общении с другими людьми Сократ использует метод майевтики (заключается в раскрытии истины путём последовательных вопросов, через «испытание»), как способ приведения собеседника к доказательству истинности, того, что он полагает и излагает как истину. Началом общения или беседы у него всегда является опровержение или же не приятие той или иной истины собеседником. Именно здесь рождается один из путей познания и изучение того, что берётся в качестве познаваемого. Вопрос о методе ещё не возникал, точнее, его пока и не существовало, как не существовало и самого существующего, которое позже сконцентрируется и предстанет нам в виде понятия – сущее. Более того, на этом этапе развития философии можно говорить, скорее, о философствовании, а не о самой философии, тем более о философии, как науке. Это связано с тем, что внешнее просто отождествлялось с человеческим и составляло ничто иное как их некое единство или единое. Отождествление, которое использовали ранние философы и мудрецы позволяет понять, что они брали в качестве познаваемого нечто внешнее, конкретное и видимое или же нечто невидимое, неопределённое, требующего своей определённости, а потому ещё и объяснения и познания. А потому мы встречаем в их представлениях огромное разнообразие того, что они полагали в основу строения всего существующего. Любое конкретное являлось ещё и всеобщим, а потому полагалось не только основой их строения, но ещё и основой изменения всего существующего. Здесь мы имеем в виду воду – Фалеса, апейрон – Анаксимандра, воздух – Анаксимена, число – Пифагора, идею – Платона и т.д. Этот этап развития философии связан, скорее, с выделением и выявлением того, что есть в мире, а также ещё и того, что можно положить в основу самого нашего познания. Ещё пока нет разделённого единства, а есть только единство многообразного. Но постепенно происходит выделение внешнего и внутреннего, по отношению к тому, кто осуществляет само познание. Это приводит к тому, что происходит рождение в лоне познания понятий – познаваемого и познающего. Но в силу того, что познающий выступает ещё и как познаваемое, являясь при этом познающим, это полагание не приводит к их полной разъединённости и раздельности, а является просто их неким отождествлением. Это тождество является универсальным, а потому в лоне познающего ещё и неразличимо, а потому и неопределённо. У Сократа познаваемое и познающий выступают как единое, неразрывное целое, которое несёт в себе как внешние, так и внутренние состояния познающего. Познаваемое у Сократа рассматривается как некое качество той или иной вещи, предмета или того, что он берет в качестве познаваемого. Примером может служить его беседа по поводу красоты вазы, как того, что в ней прекрасно, когда она цела. Если её разбить то, она превращается в кучку черепков, о красоте которых мы уже не можем говорить, тем более не можем говорить уже о красоте самой вазы. Это и есть качествование как тождество познаваемого и познающего, который и является их неким общим носителем. Человек прекрасен в своей телесности, в этом своём качествовании. Это качествование у Платона возводится в лоно всеобщности и станет, в его философии ни чем иным как идеей. Именно качествование и полагается в основу познаваемого как своеобразная гармония с самим познающим. Качествование, которое определяется по отношению к познаваемому выступает как то, что присуще и самому познающему. Поэтому, у греков качествование выступает в виде олицетворения, которое является и представляется им в виде богов и героев. С этим связан ещё и их политеизм. Более того, то или иное качествование имеют ещё и другие предметы, а потому их различие формируется не в рамках качества, а уже в рамках идеи, отражающей и несущей в себе это качество как уже некое универсальное качество, присущее различным познаваемым или их первоначальным качествованиям. Идея есть то, что соединяет в себе познаваемое и познающего, но определенная только как их внешность, а потому просто вовне. Отсюда у Платона математика играет основную роль в познании. Более того, именно поэтому она касается только внешнего, которое отражено в ней в виде форм и фигур, с помощью которых Платон строит своё понимание и представление о мире и космосе. Так возникает первый и основной “элемент” познания, который выделяет в познаваемом качество присущее ему. В этом случае в самом познаваемом появляется то, что отличает его от других познаваемых, но это отличие выделяет и наделяет познаваемое именно сам познающий. Без познающего нет идеи, как нет человека без материи или телесной формы. По отношению к познающему идея выступает как то, что является первой его субстанцией, несущей в себе ещё и её качество. Оказывается, что другие познающие обладают другим качеством и вот то, что создаёт единство этих качествований, а не качеств, которые и составляют уже некое новое качество, то общее, что им присуще. По отношению к познающему оно и выступает как идея. В этом месте мы хотим напомнить о том, что не занимаемся импровизацией учения Платона об идеи. Мы даём только то, что полагалось в саму сущность понятия идеи, а также того, что лежит в основе самого этого понятия. Как хорошо известно каждому, кто хоть немного прикасался к философии и её истокам, должно быть известно и очевидно, что понятия рассматриваются чисто с внешней стороны, с их определённости и значения слова, а не из его смысла. Это касается и понятия – идеи. Об этом мы будем говорить в соответствующем месте, а пока продолжим своё изложение в направлении понимании и осознании оснований философии, а также тех или иных философских представлений. Да! Ещё одно замечание. Мы будем придерживаться именно того понимания и осознания философии, которое подняло её до сияющих вершин человеческого познания. Философия есть любовь к мудрости, а потому мы будем придерживаться как мудрости, так и любви к самому нашему познанию. А пока вернёмся к идее и её дальнейшему пониманию и осознанию.
Слово – «идея» (и – де – я) есть не что иное как некий синтез познаваемого и познающего, а потому является чисто метафизическим понятием. Эту проблему синтеза необходимо было разрешить до построения своих представлений и учений о космосе, великому Платону. И он её решил. Но в идеи он поставил проблему синтеза и с помощью её же решил саму эту проблему. Это связано, скорее, с тем, что сам он был учеником Сократа, который ставил во главу угла не познаваемое, а самого познающего. Под познающим мы имеем в виду нас с вами или просто любого человека. В майевтике Сократа есть метафизика, которая более человеческая, чем природная, а у Платона она уже более природная, чем человеческая. Здесь мы имеем в виду не саму природу, а её представление, как некое вынесенное из лона человека качество, нашедшего своё существование в понятии, которым и стало понятие – идея. У Платона познающий и познаваемое концентрировано в понятии идеи, точнее сказать, просто слиты в нем. Так вот, слово идея больше относится к тому, что думает познающий о познаваемом, с позиции его некого взгляда на это познаваемое. При этом берётся только внешняя сторона познаваемого, но уже как некая целостная, различающаяся по отношению к другим познаваемым. А потому, это является определением познающего в познаваемом, которое уже может быть выражено в вопросе -“А где я?”. Вот почему, работая с идеей, мы в ней растворяемся, а то и просто исчезаем. Но это исчезновение есть растворение нас в познаваемом, а потому мы можем определять и выражать, например, космос, так как мы его мыслим, а потому и представляем. Он является именно таким каким мы его представляем с помощью мысли. Это отождествление позволяет нам смотреть на мир метафизически, а потому и конструировать его по своему собственному подобию. Все, что есть в нас, с необходимостью, есть и должно быть в нем. Именно поэтому космос Платона есть живой и дышащий организм, в котором есть все то, что есть и в самом человеке. Если же идти по другому пути, то тогда мы просто не сможем ответить на вопрос о том, почему греки и сам Платон представляли его живым, а ещё при этом и очеловечивали его. Точнее сказать, у них все было живое. Мёртвое вообще отсутствовало, его просто не было. Даже сама идея была живой, не говоря о космосе, или же о каком – нибудь “элементе”, который ими рассматривался и изучался. Но так как мы анализируем философию и её основания, находясь на рубеже тысячелетий, то мы будем использовать в нем и то, что было открыто гораздо позже. Иначе мы не сможем понять откуда и как возникают те или иные идеи (в смысле Платона) у великих философов. Ведь мы, с необходимостью, должны не только найти их, но ещё и использовать, а также выделить в них самые что ни на есть универсальные основания, без относительно к тому, были ли они открыты в то или иное время или же намного позднее. Мы сейчас хорошо знаем, что многие мысли у нас рождаются неосознанно и порой мы не можем понять откуда и, даже то, что явилось причиной их возникновения и появления у нас. Но если нам удастся удержать её, то тогда можно будет уже развернуть и осознать её. Для этого, оказывается, нам необходим метод, точнее сказать, нам нужно развернуть её, пользуясь тем или иным методом или же открыть некий новый метод, если она не полностью для нас ясна и определена. Через метод мы можем понять, прояснить, а также “привязать” её к некой целостности или же просто к некому единому. Так и таким образом, мы вводим новые понятия или же изменяем старые понятия.
Введение Платоном понятие идеи в познаваемое и её определённость через это понятие не решило проблемы познание самого познаваемого. Для этого необходим был метод, построением которого и занялся Платон. Все попытки решить и построить геометрический метод познания не увенчались успехом. Поэтому Платон использует идею как то, что может соединить, собрать в себе познаваемое и познающего. Различие же их создаёт у нас видимость, что философия Платона с точки зрения метода есть диалектика, но на вряд ли, он является диалектикой, потому что диалектикой является именно философия Г. Гегеля. Ведь в философии Платона и его космосе есть как познаваемое, сам космос, так ещё и познающий – человек, а потому, если он помещён в космос, то космос очеловечивается, приобретая качества и характерные черты уже самого человека. Если же мы убираем человека из космоса, то мы разделяем познаваемое и познающего, противопоставляем их друг другу, называя их при этом ещё и разными именами. Самое удивительное в том, что многие имена отражают и несут в себе как познаваемое, так и познающего. Указанное выше разделение мы встречаем у Аристотеля в виде метафизики и науке о природе – физике (фюзисе, фюсисе). В физике он говорит о неком научном методе познания, как о второй философии, считая при этом метафизику методом познания, но уже не в лоне платоновской идеи, а в лоне самого сущего. В основу второй философии Аристотель полагает чувственное познание и об этом он говорит в своей физике (фюзисе, фюсисе). Первая же философия есть учение о сущем, как о той первореальности, которая существует в неизменном и абсолютном виде. В чем же отличие идеи Платона от сущего Аристотеля? Для этого нам необходимо выяснить какое отношение имеет идея к сущему, а также, что лежит в основе их самого введения. Оказывается, что идея есть качествование познаваемого, но выраженная с точки зрения самого познающего. Познающий вносит себя в познаваемое фиксируя его качествование, его некую приложимость к человеческому.
Отсюда качествование определяется как прилагательное, т.к. качествование имеет и несёт в себе любое познаваемое, то его полагание в любое познаваемое, говорит о том, что качествование отдельного, индивидуального присуще уже всему, вследствие чего и становится самим его качеством. Оно задаёт и определяет во всем познаваемом, при этом познаваемым становится весь космос, идею самого познающего. Но почему идея не является качеством? Оказывается, что качество есть то, что принадлежит познаваемому, а идея, принадлежит самому познающему. Отсюда познающий есть тот, кто познает, а познаваемое есть то, что познаётся. Идея отражает в себе то, что познаётся, при этом главным акцентом является именно то, кто именно познает. Поэтому – то идея в первое время играет роль некой тотальности, позволяет увидеть и определить то, что не принадлежит человеку, определяя это через него же самого. Именно отсюда и метафизичность самой идеи. Но, кроме этого, она позволяет во множестве познаваемых выделить, а также ещё и наделить их неким уже единым для них качеством, различие которых выражает собой уже некое качествование, но уже отдельных, конкретных познаваемых. Вот почему идея, с одной стороны, всеобща, а, с другой стороны – индивидуальна. Отметим, что познаваемое в идеи отражает в себе познающего, порождающего эту идею путём отождествления себя с самим познаваемым. Абсолютизация себя как познающего ведёт к абсолютизации и самой идеи, а отсюда идея становится также абсолютной и неизменной, а потому может быть уже оторвана от него, существовать независимо от познающего и самого познаваемого. Именно так возникает мир идей или Гиперурания Платона. Оказывается, что идея чувственна, т.к. в основу её составляет то или иное качество. Но совсем иной смысл имеет сущее Аристотеля. Сущее выступает у него уже как некое единое познаваемого и познающего. Это качество, выражающее себя в виде существующего, присущего как тому, так и другому. В нем они оба исчезают и отражают только свой временной характер, но не самого познаваемого, а именно познающего. В этом случае человек как познающее становится в один ранг с познаваемым и выступает ещё и как познаваемое. Сущее есть целостность, отражающая собой не человеческое, а некое временное в нем. Существующее, существование, вот есть то, что содержит в себе сущее, несущее в себе именно такой основной смысл, суть и содержание.
Мы ввели в анализ время как необходимое основание для познания сущего. Сущее есть отражение на пространстве того, что познаётся, но которое выражено как существующее, то, что просто есть и существует. Полагая его в статическом виде, мы и получаем сущее. Сущее поэтому и есть то временное, которое отображает в себе все существующее, включая сюда и самого познающего, которой также подвержен факту существования.
Мы не можем рассматривать сущее и идею по отношению друг к другу, как, например, дерево по отношению к человеку. Это ничего нам не даст в познании ни дерева, ни человека, разве только, выявление и установлению их неких определенных различий как одного по отношению к некому другому. При этом мы получаем чисто сравнительный анализ, выясняя тем самым их единство или существующие различия. Единство и есть сущее, а различие – идея. Поэтому сущее отражает в себе природное, а идея – человеческое. Соединение их приводит к тому, что мы уже ставим вопрос о том, что есть идея сущего, а также, и то, что есть сущее как идея. На первый взгляд может показаться, что это одно и тоже, но оказывается, что это не так. Полагая идею в сущее, мы имеем человеческое в природном. Полагая же сущее в идею – природное в человеческом. Первое есть метафизика, а второе – наука в аристотелевском понимании. Платон реализует первое направление, а Аристотель – второе. Тому свидетельствует его физика и учение о фюзисе (фюсисе) или природе. Эти два направления философии развиваются независимо друг от друга. Так Платон в основу космоса и его статики полагает идею вне сущего, а Аристотель – уже сущее вне идеи. Так возникает понятие предмета как того, что пока не имеет своей определённости, а просто, как бы, “помечается” для самого нашего познания. Пред – мет и есть то, что предварительно помечается с целью познания. А отсюда предмет и выступает как некая целостность, целое, а то, что находится в нем, есть уже его некая множественность, выступающая и составляющая её части. Так возникает отстранённая идея целого и части, заместившая в себе идею в сущем.
Очень интересна в этих отношениях позиция познающего и познаваемого. Так если идею поместить в сущее, то познающий занимает позицию внутри сущего. В терминах человека и природы это есть полагание человека в природу. Сам человек при этом находится в лоне природы. Если же сущее полагается в идею, то человек становится над природой, природное входит в лоно самого человека. Так в первом случае человеческое выступает как природное, а во втором – природное как человеческое. Но нам хорошо известно, что если мы находимся внутри чего – то, тогда не можем определить, что это есть такое, а также ещё и того, где мы действительно находимся. Поэтому мы говорим о некой предметности. Если же мы находимся во вне этого то, не можем определить, где, находимся, но можем определить, что это есть такое. В этом и другом случаях мы теряем своё место и не можем определить его. Но в одном случае мы знаем с чем имеем дело и что познаем. Поэтому в XVI- XVII веках появляется идея определения системы отсчёта для определения положения, как места по отношению к тому, что мы изучаем, а также и тому, где мы ещё находимся. Но не будем пока торопиться и займёмся дальнейшим анализом сущего и идеи.
При анализе нам необходимо иметь в виду, что мир объектов не известен и его действительно нет в сущем и идеи, т.к. они отражают и несут в себе лишь некие качественные стороны познания по отношению к познаваемому и познающему. Разделение сущего и идеи приводит к тому, что идея формируется как некое представление о качестве всего, отражающего и несущего в себе качество ещё и самого человека. Лучше, конечно, говорить о познающем, т.к. человек есть объект, а познаваемое – предметно – предмет. Сущее несёт в себе некое другое представление о всем, оно указывает на то, что все существует, есть. Вот почему первые высказывание были простыми утверждениями, не имели и не несли в себе должного содержания. Это имело место и у греков при познании ими самого космоса. Например, “Все из воды и в воду превращается. Вода – это вода, вода есть вода.” Это и есть утверждения существования или естности, как познаваемого, так и самого познающего. Но внутри идеи есть ещё и то, что определяет познающего с точки зрения его нахождения по отношению к самому познаваемому. Но сама идея снимает это, указывая нам на то, что если вы определяете её, то вы ещё в ней и сами находитесь. Идея полагает человека там, где он её определяет, растворяет его в себе, определяя тем самым познаваемое в виде того или иного качества.
Если идею и сущее положить независимо друг от друга, то тогда мы уже получим и независимость самих познаваемого и познающего. Эта независимость, оказывается, только видимая. На самом деле идея познает сущее, определяет и вносит в него качествования самого человека, отражающееся в нем как его качество, потому – то она имеет отношение как к одному, так и другому, так ещё и его состояние, в котором он находится как познающий. Сущее есть тождество познаваемого и познающего, есть их “негация” в некоем едином качестве. Вот почему мы можем говорить об идеи предмета, объекта, космоса и т.д. Но мы не можем сказать, что есть сущее предмета, объекта, живого и т.д. Вот поэтому идея диалектична, а сущее – монолектично и может быть описано с помощью формальной логики. Идея не может быть так описана, потому что в ней есть ещё и познающий, сущее же может быть описано. Примером такого описание является физика Аристотеля. Позже эту идею разовьёт Р. Декарт в своей первой философии, конкретизируя эту форму до телесности, выраженную в виде универсальной формы сущего – теле или телесной форме. Но ведь сущее и идея вводится в познание познающим, а потому мы должны ответить на основной вопрос:
–“Почему мы познаем именно так, а не иначе?” Чтобы ответить на него нам необходимо найти основания, лежащие в самом познающем. Их нетрудно определить после анализа, который мы дали выше. Так если мы говорим о том, как рождается идея познающим, то и ответ на этот вопрос весьма прост. Если я есть все, то тогда все и во мне, а потому я могу найти все и там, где меня нет. Но раз я могу находится где угодно, то я определяю, где я тогда есть и нахожусь. Вот это определение естности в познаваемом и есть идея. Я там, я в этой идеи, т.к. я рождаю её в самом познаваемом. А потому я – это место этого познаваемого в качествовании. Вот отчего и почему у нас меняются идеи и вот почему мы определяем временное нахождение нас в познаваемом в виде конкретных идей или качествований, но уже по отношению к самому познаваемому. Но совсем другое дело сущее. Сущее содержит в себе познающего, в смысле своей тождественности с познаваемым. Поэтому сущее – всеобще, а идея – индивидуальна и всеобща одновременно. Сущее есть время, застывшее на пространстве, идея есть познающий, застывший в познаваемом. И в этом огромная разница идеи и сущего. Вот почему мы можем рассматривать идею в сущем, сущее в идеи, а также и идеи, и сущее независимо друг от друга. Но, кроме этого, есть ещё и их некое взаимоотношение. Да, оно есть, но только тогда, когда мы рассматриваем познаваемое как динамическое, как изменяющееся и развивающееся. Если же рассматривать статически, а именно так рассматривали их Платон и Аристотель, а потому и выражали в виде тех или иных качеств и качествований. Примерами их могут служить такие понятия как субстанция, субстрат, природа, материя, форма, движение и т.д. Как понятие связано с качеством мы будем говорить ниже. Вот поэтому многие философы не могут до сих пор определить, что есть сущее, а что есть идея. В статическом представлении и полагании сущего и идеи на этот вопрос ответить просто невозможно, как невозможно найти основания, на которых они держатся и стоят. Поэтому – то мы и восторгаемся их учениями и философией, т.к. греческие мыслители ввели все элементы, которые мы изучаем и в настоящее время, хотя многие из них нами уже переименованы и имеют другие имена и названия. Оказывается, что сущность, их смысл и суть не изменились. Об этом мы будем говорить в системологии – методе анализа систем.
Теперь, нам необходимо рассмотреть ещё и самого познающего, который “рождает” в себе идею и сущее. Так рождение идеи связано с тем, что познающий определяет по отношению к себе качество познаваемого и это его состояние, в свою очередь, порождает в нем ещё и понятие идеи. Происходит это следующим образом. Укажем, что мы говорим не о самой идеи, а о её рождении. Познающий видит познаваемое как отличное от себя. Это отличие вызывает у него определенное переживание, которое есть переживание места, в котором он находится. А так как-то место, где он находится не определимо точно, в том смысле, что, даже, изменив своё место, он все равно видит познаваемое неизменным. И вот тогда он утверждает себя, перенося своё место на место познаваемого, указывая на то, что есть у них одинакового, тождественного. Так познающий утверждает себя в познаваемым, определяя себя в нем как некое качество, выраженное тем переживанием, которое у него имеется в данный момент времени. Но вследствие того, что познающий не может занять место познаваемого он отстраняет это качество от себя и наделяет им уже само познаваемое, но при этом сам так и остаётся в неопределённом месте и в своей неопределённости. Именно эту неопределённость Платон и полагает в идею, хотя наделяем этим же ещё и само познаваемое. Это есть пространственное определение познаваемого, которое выражается не некой совокупностью характеристик познаваемого и познающего, а просто их неким мысленным отождествлением. Потому идея есть то, что рождает и создаёт разум, понимаемый как перенесённая чувственность или переживание за познаваемое и помещаемое именно в само познаваемое. Вот почему идея содержит и несёт в себе ещё и некую двойственность, дуальность. С одной стороны она разумна, по отношению к познаваемому, с другой – чувственна, по отношению к познающему. А потому идея чувственна – разумна. Если мы свяжем идею только с познаваемым, то она станет характеристикой этого познаваемого, превратится в статическое образование, чувственное при этом уходит из неё, в ней не остаётся самого познающего. В этом случае мы уже не сможем определить и описать познаваемое, разве только представить его как сущее. Поэтому основанием сущего является чувственное познаваемого. Но разве нет в сущем разумного? Ведь мы его определяем также как и идею. Да, это так, но вообще – то и не так. В сущем познающий занимает такую позицию, что и познаваемое, но не как то, что объединяет их как качество, а то, что объединяет их как существующее, но отражающее и несущее в себе не пространственное, а некое временное. Полагание этого временного в познаваемое и есть сущее. Но почему это связано именно с чувствами познающего? Это объясняется тем, что в отличие от разума, чувства связаны с переживанием своего времени жизни, с переживанием и самой жизни. Это наблюдается и в самом познаваемом, в его способности являться и исчезать, тоже самое, как оказывается, происходит и с самим человеком как познающим. Поэтому разум есть пространственное представление познаваемого, а чувство – уже его временное представление. Именно поэтому мы в познаваемом отыскиваем идею и сущность, понимая их как предметность. Итак, человек как самость проявляет себя по отношению к пространству – как разум, разумное существо, а по отношению ко времени – как чувство, чувственное существо. Вот почему мы говорим, что человек есть и разум, и чувства. Они есть, если он познает, а если нет, тогда, что же у него тогда выступает вместо разума и чувства. В связи с этим снова вернёмся к познающему и рассмотрим его более глубже и точнее. Ведь в идеи есть и разум, и чувства, как они есть и в сущем, а потому разделить их просто нельзя и невозможно. Мы это сделали для того, чтобы показать, как мы поступаем и что имеем, если отбрасываем то, что является существенным и не может быть просто отброшено. Если вы вернётесь и перечитаете идею и сущее с точки зрения познающего, то увидите, какую грубую редукцию мы провели, потеряв при этом то, что является столь выраженным, что мы не можем этого обойти, а тем более просто отбросить. А потому рассмотрим более внимательно позиции познаваемого и познающего.