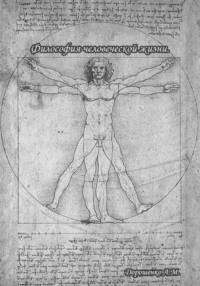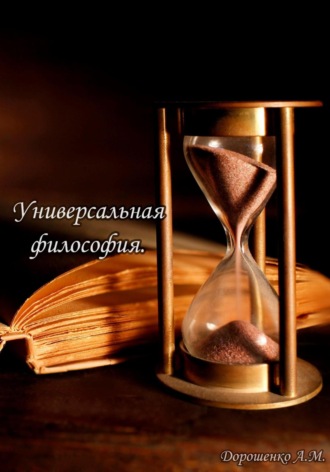
Полная версия
Универсальная философия
Как мы уже говорили, познающий может находится в двойной позиции по отношению к познаваемому; познавать его и чувствами, и разумом, но фиксирует это по отношению к пространству. Так он фиксирует познаваемое не по отношению к пространству, а по отношению к познающему, которое в свою очередь находится в самом познаваемом. Это есть не только разум, но и чувства. Но разум и чувства представляют себя в пространстве в виде познаваемого. Этот пространственный разум чувств называется духом, точнее сказать, остывшим или застывшим духом. Именно в нем и существует идея, соединяющая в себе разумное и чувственное. Сущее также есть разум и чувство, но представленное уже во времени, а потому и отражающее именно его. Это есть чувственный разум или душа. Мы можем обнаружить это и у Платона, и у Аристотеля. У Аристотеля основу познания составляет душа, а у Платона – дух. Чувства и разум у них просто констатируются как наличное познающего, но ещё не играет той роли, которую они приобретут во времена уже нового времени в работах И. Канта и Г. Гегеля. Итак, мы выделили эти два основания философии греков, которыми является дух и душа. Они есть те самые первые основания, через которые все констатируется и познаётся. У них нет ещё разделения на чувство и разум, но они уже участвуют в познании, на них, как оказывается, осуществляется и совершается само наше познание.
Мы же пойдём дальше и рассмотрим, как происходит дальнейшее развитие философии и какие трансформации при этом она претерпевает. Внимательный читатель может уже сам установить возможность дальнейшего её развития. Это и прекрасно, но мы думаем, что ему захочется сравнить то, что он для себя понял и сделал, а также ещё и сравнил с тем, как это развивалось исторически и изложено в современной истории философии.
Прежде чем перейти к дальнейшему изложению мы сделаем любопытное замечание для очень критиканских философов и учёных. Мы не рассматриваем все понятия и категории философии, которые выявили и ввели в неё греческие мыслители и философы. Мы также не разъясняли и те идеи, которые выдвигали другие греческие мыслители и философы, которые до настоящего времени используются нами уже с чисто изменённой, а порой и просто редуцированной “начинкой”. У нас мало и конкретных примеров, часто необходимых для того, чтобы затуманить философские основы самого их познания. У нас задача другая и мы будем придерживаться выбранной цели – понять почему мы познаем именно так, а не как – то иначе, как – то по – другому. Она состоит ещё и в том, чтобы понять на каких основаниях вообще строилась и покоится сама философия. Ведь если их нет, или же их не представляет тот или иной автор, то тогда говорить о философии, вообще не имеет смысла. Это есть просто пустая болтовня, то об одном, то о другом, а в общем, ни о чем. Наиболее явно это выражено в современной философии, это не миновало и философию нашего времени. Смысл самой философии в её понятии. Философия есть любовь к мудрости, а не простое мудрствование по поводу того или иного, чего – то нам неведомого и непонятного. Об этом мы тоже поговорим в своём месте и тогда, когда в этом возникнет самая насущная необходимость.
Оказывается, что в итоге мы имеем две философские системы. Первая – это философия Платона с её идеей и Гиперуранией (Гиперурания – непространственный, умопостигаемый, надфизический мир. Идеи доступны лишь наиболее возвышенной части души, т.е. открыты понимающему уму, и только ему), вторая – философия сущего и физика Аристотеля. Эти два философских направления в основе которых лежит дух, и душа остановились в своём развитии до рождения религии, вплоть до первого века нашей эры. Наступает эра рождения религии и христианства. Что полагается в её основу и составляет её основания вполне ясно каждому и думаю вполне понятна и ясна. Ведь ими являются те же самые основания, на которых строилась философия Платоном и Аристотелем. Но в христианстве, на начальном этапе его развития происходит отход от греческого представление о духе и душе. Теперь душа и дух выступают как внешние, а не внутреннее, присущее самому человеку. Они начинают универсализироваться и полагаться в пространство, но не как некие самости, а просто как “человек”, несущий в себе духовно – душевную интенцию. Это приводит к возникновению человеческого монизма, к тому который выносится ещё и в пространство, во вне. Он и начинает выступать как Бог. У греков эти основания служили для познания, через них они постигали мир и человека. Но если вынести человека не как познающего, то тогда кем же он при этом становится. Он уже становится не познающим, а создающим. Ведь те знания, которые у него есть и к тому он ещё и сам их получает, следовательно, сам их и создаёт. А это уже означает то, что происходит смещение акцента с человека – познающего, на человека – создающего, который в свою очередь выносится ещё и из лона времени и полагается только в пространство, становясь при этом сам творцом – богом. Он не выступает как познающий, он выступает как создатель всего. Он уже не есть человек. Человек выступает как то, что он создал. Человек есть лишь его образ, лик. Поэтому с познанием он не связан, потому что наши знания все-таки могут ещё и измениться. И вот человек со своими основаниями познания, которыми является душа и дух помещается на пространство и застывает в его статике. Это и есть бог. Вследствие такого полагания мы не можем описать и вообще познать бога, также как не можем этого сделать по отношению к сущему и идеи. Мы пишем слово бог с маленькой буквы, потому что этот бог, создан только самим нашим познанием. А раз бог есть душевно – духовное, то мы не можем это вместить в материю и природу, а отсюда и считаем, что он создаёт это из ничего. Раз материю создал бог, то тогда вопрос о её создании касается не природы, а именно самого человека. Но надо же хоть что – то говорить о боге и о том, что он есть такое. Для этого нам необходимо рассмотреть метафизику человека и метафизику бога.
Метафизика человека – познающего у греков, основывается на выделении его качеств и отождествление их с самим познаваемым. Но метафизика самого человека есть его качества, которые присущие именно ему и принадлежат только ему. А раз их познать сложнее, следовательно их легче перенести на пространство, положив как неизменные и абсолютные. Эти абсолютные и неизменные качество и переносятся на самого бога. Так возникает метафизика бога. Но в этой метафизике в отличие от метафизики бога полагаются качества самого человека. Так возникают ценности, выявленные и присущие человеку, положенные уже на божественное, как то, что только ему и присуще. Вот почему в первых скрижалях указаны именно “нравственные законы”, выражают основные ценности самого человека. А вечными они становятся, потому что полагаются в пространство, которое в нашем сознании связано с неизменностью и абсолютностью. Вследствие этого религия как учение о Боге строится на вечных и непреходящих ценностях. Бог это есть бог религии, понимаемый как творец мира, поэтому слово бог мы уже пишем с большой буквы. Религиозное полагание Бога как творца уже не есть научное полагание, а потому не есть его полагание в сфере только нашего познания. Это уже есть сфера деятельности. Утверждением этих ценностей стало христианство, покоящееся на душе и духе. Для утверждения этих ценностей необходим был и их некий носитель. Им стал Иисус Христос, принявший материальную смерть, утвердив тем самым вечность ценностей, а также и возможности преображения и просветления тела переходом его в плоть. Христианство становится главным направлением утверждения духовного и душевного начала в человеке. Смерть Иисуса и его воскресение есть перенос и соединение метафизического и природного человека, есть некое утверждение метафизичности человека и его ценностей. Именно этот переход рождает и утверждает в человеке его первокачества. Но, кроме этого, указывается путь движения к Богу, который показал людям Иисус Христос. Этот путь есть вера в Бога. Так происходит утверждение в мире веры, путём смены познания на веру. Мы все станем Богами, если будем следовать христианским истинам. Для утверждения этих истин создаётся библия, в которой указан путь движения к совершенству, к Богу, на примере жизни Иисуса Христа.
Так совершается отход от философии, точнее сказать, наступает не некий перерыв в её развитии, а смещение акцента с познания, на ценности и веру. Так человек предстал для мира и людей как познающий, а ещё и как ценностный. Утверждение этих ценностей ознаменовало новый этап в развитии и самой философии, как философии ценностей. По мере развития христианства ценности человека изменялись, что породило внутри самого христианства и различное их толкование. А это, в свою очередь, привело к тому, что религия из ценностной превратилась в религию моральную, которая стала изменяться чисто внешне, а не внутренне, потому что не была связана с самими изменениями в человеке. Эти внешние изменения появляются с развитием самой человеческой деятельности. Они привели к изменению и самой метафизики человека. Удержание этой первой метафизики привело к расколу церкви, породившего множества направлений и в самом христианстве. В истории этого периода мы можем выделить соборы верховной церковной власти, направленные на изменения и дополнения в догматах христианства. Вот поэтому и в самой библии мы можем встретить множество взаимоисключающих, а часто и просто искажающих друг друга фактов и истин. Кроме этого, в лоне религии появляются и чисто научные разработки. Эти разработки связаны с так называемым новым направлением, родившемся в лоне религии и философии, названную религиозной философией. Удивительно то, что развитие религии привело к тому, что оно стало способствовать и развитию многих научных идей и, даже, привело к рождению самой техники.
Смена ценностей связана с изменением самих социальных отношений, которые составляют основу ценностного отношения человека. Ведь ценности есть то, что присуще каждому человеку, а их изменение приводит к изменению и самого человека. Так рабство несёт в себе свои ценности, несвободу человека, отмена или уничтожения рабства изменяет человека, тем самым изменяются и сами его ценности. Материальные отношения не касаются религиозных ценностей, т.к. они не имеют отношения к самой индивидуальности, а только к её некому внешнему проявлению, к поведению. Они имеют отношение между индивидуальностями как материальными субстратами, поэтому К. Маркс назвал их производственными отношениями.
Религия выступает как философия абсолютных ценностей человека и не касается отношений между людьми. Смещение на ценности человека привело к тому, что встала проблема в рамках религиозности – определение Бога, его описания, а также осознания и познания. Так для этих целей многие религиозные учёные стали использовать труды Платона и Аристотеля. Это привело к тому, что внутри религии стало зарождаться некое новое направление, которое на смену духа и души, являющихся основами познания, стало полагать чувства и разум, но уже в лоне самой веры. Вера стала отражать и нести в себе основу религиозности, а потому и ставшей на ней покоится, разум же – некое новое научное направление, ориентированное на познание природы, ознаменовавшее явление в мир религиозности рацио-, как того, что, с необходимостью, должно быть доказано, если это является неким нашим знанием. Это можно найти в трудах У. Оккама, Д. Скота, Ф. Бэкона и др. Такое положение в религии связано с тем, что в неё проникли работы Платона и Аристотеля. Конкретность и всеобщность платоновской идеи привела к тому, что божественное стало не только универсальной ценностью, но ещё и породило представление о проходящих ценностях, породив тем самым в лоне христианской религии множество самостоятельных направлений. Христианство стало распадаться, образовав множество ветвей, к которым относится католицизм, православие и другие направления.
Подвести учение Аристотеля под ценности не удалось, потому что у него метафизика касалась познания природы и сущего. Идея подходила лучше, но в итоге приводила также к такому результату, к какому приводила и философия Аристотеля. Но в силу того, что в метафизике Аристотеля и Платона имелось учение о космосе, а в лоне религии это учение преломилось в рождение нового метода познания, основу которого стало составлять доказательство, а позднее, превратившееся в опыт и эксперимент. Так в рамках ценностного описания мира – религии, появилось научное направление, которое стало базироваться на учении Аристотеля и Платона. Это привело к разделению разума и веры, а затем и к их тотальному разрыву. Разум – рацио стал выступать как основа познания природы, а вера – основой религии. И по настоящее время религия основана на вере, а наука – на разуме. Но для познания необходим был некий и новый метод. Этот метод создаёт Р. Декарт, строит его на основе синтеза веры и разума. На самом же деле Р. Декарт под веру подводит разум, а под разум – материю в её телесной форме и субстрате. Дух был им полностью вытеснен, его место заняла душа, представленная в виде разума и материи, выраженной в форме телесности. Так им был совершён возврат к человеку как познающему, а познаваемым стал разум и тело, точнее, разум как уже сам “метод” познания, а тело – как стало при этом познаваемым. Душа была отождествлена с духом, в которой он растворился и просто исчез. Вот почему Декарт говорит о душе и духе как об одном и том же. Он не разделяет их, т.к. главное, на что он обращает своё внимание является познаваемое, а не ценностное в познаваемом. Поэтому познаваемое у него также метафизично, но положено в пространство уже как телесность, можно сказать, как уже некое ограниченное познаваемое, которым является форма человека – тело. Сущее было отождествлено с разумом, точнее сказать, составило уже и сам разум. Вот почему Декарту в своей философии пришлось решить чисто метафизическую задачу, перенести сущее в пространство. Вследствие того, что разум принадлежит человеку, как и тело, перенести их в пространство мы просто не можем. Но если все – таки перенести тело, то тогда получим натуральную философию, которую позднее построит И. Ньютон, а потому раз необходим метод можно поместить в него разум. Человек познает разумом и это он выражает метафизически в виде: -“Я мыслю, следовательно, я существую”. Это означает, что человек как познающий уже положен в пространство и определен как сущее, точнее, не он сам, а только его разум. У Аристотеля человек познающий также положен в пространство. Но различие их метафизики в том, что человек положен как конечное, как Я. Вот почему Р. Декарту удалось построить математическую теорию, ввести систему координат, распяв на нем само пространство. Именно в ней, в метафизике, Я представляется как единица, как начало и конец, как смысл и суть познаваемого. Отсюда протяжённость выступает как качество телесности. Но кроме разума и познания с его помощью Р. Декарт говорит о чувствах, о познании вещей с помощью чувств. Как мы видим, в отличие от метафизики Платона и Аристотеля его метафизика состоит в том, что они строят познание на основе качеств, присущих человеку. Р. Декарт строит её на основе дуальности Я. Это Я кроме качества, несёт в себе ещё и некое количество. Именно количество ставится в основу, а качество уже отходит на второй план. Так осуществляется и происходит переход от метафизики качество к метафизике количества. Познание как у тех, так и у другого концентрируется вокруг сущего, а потому и является само сущее. Под сущее Р. Декарт подводит математику, соединяя тем самым алгебру и геометрию в некое единое целое. Сделаем небольшое отступление, связанное с тем, что если мы будем рассматривать философию Р. Декарта, Платона и Аристотеля раздельно друг от друга, а именно так поступают в настоящее время, то тогда мы не решим проблем, связанных как с их основаниями, так и с их различием и переходом в нечто другое, часто считаемое нами ещё и чем – то новым. Именно это интуитивно сформулировал в своём законе перехода количества в качество Г. Гегель. У нас же качество перешло в количество, а как рождается новое качество из количества мы до сих пор, так и не знаем. Вот почему Г. Гегель формулирует это в виде закона, потому что законы принимают, а не обсуждают, а просто ими пользуются.
Выделим основания, которые использовал Р. Декарт при построении своей философии. Ими являются разум и чувства, в том смысле, что на них делается главный упор и строится метафизика природы. Хотя и у Р. Декарта, как мы уже говорили, есть и душа, и дух. Но душа и дух в его философии, неразличимы и тождественны. Так от метафизики человека осуществляется переход к метафизике природы и материи, понимаемой уже не как предмет, а как объект. А раз объекту присуща форма, её он, оказывается, ещё может быть и просто определен. И этой его определённостью является форма, которая у Р. Декарта есть тело, как отражение телесного качества самого человека, перенесённого им и на саму материю. Именно отсюда И. Ньютон исходит в своём построении натуральной философии, именно полагая её в качестве основы натуральной философии. Форма дала возможность Р. Декарту ввести в познание телесность, а вместе с ней и её качество – протяжённость, но используемую и определенную не как качество, а уже как некое количество. Так переход от человека с его ценностями и качествами, к человеку как Я, единственности привёл к рождению метафизики количества, которую и разработал Р. Декарт. Но главный упор Р. Декарт сделал все – таки на разум, как на то с помощью чего мы осуществляем своё познание, а ещё и как на то, что познаётся проще всего. Материя и тело сложны, а потому для их познания необходимо их деление на части. Так и происходит объективизация самой предметности. Так совершается ещё и переход от предметности познаваемого к его объективности, а отсюда – от качества к количеству.
Развитие философии в её количественной форме привело к тому, что она представила познающего и познаваемое в узкой и ограниченной форме. К тому же исчезли из познания две основы – душа и дух. Это означало, что качественное описание познаваемого потенцировалось, а актуализировалось уже его количественная сторона.
Возвращением души и духа в философию посвящены основные работы Г. Гегеля и И. Канта. Это связано с тем, что произошла утеря качества, а вместе с ним и ценностного отношения к познаваемому. Именно решение проблемы качества в рамках уже новой философии осуществили Г. Гегель и И. Кант. Г. Гегель построение своей философии начал с феноменологии духа, которая утверждает и обосновывает дух именно как феномен. Но для этого утверждения необходим был метод, позволяющий его обосновать и утвердить, поэтому Г. Гегель ищет метод познания именно через дух. Есть у него что – то схожее с Р. Декартом, построившим свою философию через разум. С этой целью Г. Гегель возвращается к греческой философии, точнее сказать, к Платону и его учению о идеи. Но строит свой метод не на духе, а на разуме и чувствах, полагая их как противоположности. В разуме он строит диалектику духа, точнее сказать, диалектику разума, а в чувствах – диалектику природы. Легко установить, что оба этих метода являются диалектическими, независимо от того, к чему она применяется и имеет своё отношение. Различие философии Р. Декарта и Г. Гегеля состоит в том, что на место природы и человека, ставятся уже субъект и объект. Именно их можно поляризовать на противоположности. Это также есть ничто иное как деление Я на материальное, телесное и нематериальное, бестелесное, в основании которого лежат разум и чувства. Отсюда диалектика, с необходимостью, требует деления, познаваемого на противоположности, которые теряются в его единичности и “ятности”. При этом Г. Гегель делает главный упор все – таки на разум и строит свою философию на отождествлении разума и духа – разумном духе.
В основе же философии И. Канта лежит душа, которая представляется в виде разума и чувств. Но основной упор в ней он все – таки делается на чувства. Именно в чувственном и через него, он выявляет пространство и время, как некие две формы, в которых существует материальное и телесное. С помощью этих оснований он строит свой метод познания, который в отличие от Г. Гегеля называет метафизикой. Эти основания являются не только основой самого нашего познания, но составляют ещё и сам метод познания. Отсюда И. Кант заключает, что эти основания позволяют решить любую метафизическую проблему, но сам метод их решения ему так и не удаётся построить, хотя он осуществил эту попытку в учении о методе и изложил его своей книге “Критика чистого разума”. Вследствие чего его методология касается не анализа метафизических сущих, как природных, так и человеческих, а построение из них того, что стало бы составлять уже некую систему. Но и здесь ему удалось только установить, что метафизика не есть наука, тем самым ещё раз подчёркивая свою мысль о том, что она есть именно метод, а потому говорить о ней уже нужно как о неком методе познания.
В заключении исторического обзора мы остановились на Г. Гегеле и И. Канте, на их диалектиках разумного и чувственного. Дальнейшее развитие философии остановилось и до настоящего времени нет ни одного философского учения, достойного философий, приведённых нами мыслителей.
Анализ истории развития философии показывает, что её развитие возможно только в том случае, если разрабатывается некий новый метод познания. Без него нет и новой философии, а потому нет и самого её развития. Но новый метод так и не был разработан, его нет и в настоящее время. Хотя и был предложен способ изучения, познаваемого через его системность, даже, считают его само системой, но как познавать систему или хотя бы то, что она из себя представляет мы не знаем и просто не можем. В нем, как оказалось, основу составляет не поиск метода познания, того, как мы познаем, а поиск того, что мы будем познавать, а ещё и того, как можно организовать познаваемое в некую систему. Этот метод, как только зародился так сразу же и исчез в бесконечном потоке самих познаваемых. В этом мы убедились выше. Все философии полагают те или иные основания и в основу самого метода познания. К ним относятся метафизика и диалектика. В системологии не были выделены основания, поэтому был осуществлён чисто механический подвод под познаваемое неких совокупностей, элементов и наложены на них связи, которые, якобы существуют между ними в самой их реальности. Неужто непонятно, что это есть не система, а просто некая модель системы. В этом подходе, даже, не удалось определить, что является познаваемым и как познающий будет осуществлять своё познание. Это привело к тому, что в философию стали выбрасываться и впрыскиваться чисто субъективные представления того или иного учёного или философа, что привело к тому, что системология как метод стала всем чем угодно, была просто замусорена и просто обескровлена. Это связано с бесконечными вливаниями в её лоно разной шелухи и человеческих мнений, своих импровизации мысли и личных научных амбиций. Оживить то, что мертво едва ли возможно, а потому, сейчас, просто забросили эту затею, оставили философию в покое. Так. В настоящее время, обстоит дело и с науками, которые также перестали развиваться, застыли как в трауре, потеряли свою жизнь, истинную жизнь, исчерпав себя в познании смерти и способов её осуществления. Переход от мира техники к социальному миру и породил к ней негативное отношение и самого человека. Ведь в науках, как и в философии есть знания, а техника есть всего лишь прикладная часть знаний, которая в современном мире выведена в качестве их заменителя, носителя и некого представителя. Она заменила собой знания, а потому знаний не стало, как не стало ни наук, ни философии. Отсюда обращение человека к социальному миру, к знаниям этого мира, которых, как оказалось, у нас не так уж и много. Отход от прикладной, практической составляющей знаний привёл к обращению человека к миру знаний социальных, к гуманитарным наукам. Но двигаться от одной крайности к другой, есть просто некий возврат к тому, откуда мы когда – то исходили и начинали. Мы стали на край пропасти и думаем кинутся ли нам туда или нет. Но кто её создавал тот в неё и попадёт.
Мы не отправились по следам истории философии, тем самым не приняли существующий стереотип, а пошли своим путём, ища то, что, не взирая на века, остаётся путеводной звездой человечества в его познании истины. Тем самым нам удалось убрать всю шелуху субъективизмами, заменивших саму мудрость, которая даёт нам возможность познавать, а также субъективизация любви, которая не есть ностальгия и экстаз тел, а есть мудрость и любовь к тому, что нас породило, создало, даёт нам силы выжить в этом мире, а также радость бытия и творчества.
Системология не дала нам метода познания, как не даст нам его социальная метафизика и диалектика. Для того, чтобы построит новый метод нам необходимо провести анализ метафизики и диалектики. Этот анализ как оказывается вообще – то никто и не проводил, хотя все используют эти методы. Но только углубившись в них мы сможем их понять. Кто это объяснил? Кто это смог нам показать? Если мы умеем ставить вопросы, а тем более создавать проблемы, так давайте же их решать. Наш разум восстаёт против этого и “говорит”, что же эта за проблема, если её невозможно решить. И вот здесь не бесполезно вспомнить великого Г. Гегеля, который говорил о том, что проблема не в том, что мы не можем решить тот или иной вопрос или решить ту или иную проблему, а в том, что нужно саму проблему или задачу поставить несколько иначе, по – другому. Именно так он пришёл к построению своего диалектического метода. Но системология отвернулась от этой простой истины великого гения. Отсюда таков и её результат на сегодняшний день. А потому нам приходится решать все те же проблемы и вопросы, но сперва, мы рассмотрим самые главные основания любой философии. Мы их можем назвать самыми первыми основаниями, самыми универсальными в том смысле, что только через них и с помощью их строятся все, существующие философские системы. Ими являются чувства, разум, душа и дух. Это есть универсальная четвёрка, которая отражает все существующие в настоящее время представления. Именно на них стоят наши основания познания. В их лоне философия уже не может быть разделена на западную и восточную или на какие – то другие философии. Поэтому рассмотрим эти основания отдельно и дадим их анализ, а также все возможные методы познания с их применением. Мы не будем ограничиваться рассмотрением только современных философских представлений, учений, представлений и систем, а будем смотреть на весь имеющийся арсенал человеческих знаний. Но сначала нам необходимо рассмотреть, что есть познаваемое и что есть сам познающий.