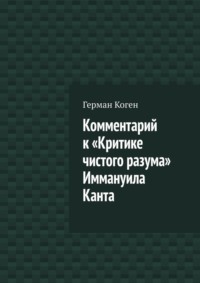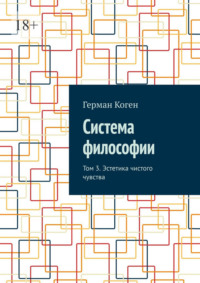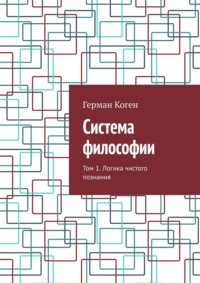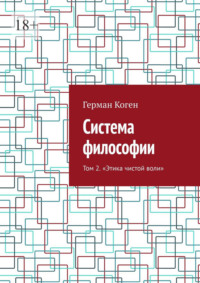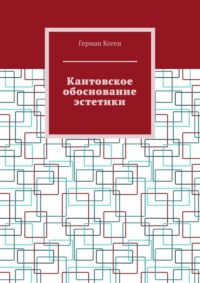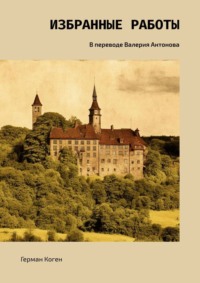Полная версия
Этика Канта
После этого прояснения трансцендентальной мысли остается обсудить еще одну трудность. Различие между явлением и вещью в себе после этого изложения, кажется, почти полностью исчезает. Явление, мыслимое как частный случай закона, само есть вещь в себе. По крайней мере, закон есть вещь в себе. Следовательно, должно быть столько выражений вещи в себе, сколько есть законов, сколько есть синтетических принципов. Однако известно, что «Критика чистого разума» установила иную терминологию и иную экономику познаваемого.
Различение явления и вещи в себе становится бессмысленной фразой, как только упускают из виду его тенденцию. Вещь в себе остается для нас непознаваемой, говорят; лишь явления суть предметы нашего опыта. Но что же означает эта вещь в себе, которая остается для нас непознанной? Какую функцию она выполняет в аппарате познания? Обычный ответ гласит: само слово «явление» ведет к этому; явление должно быть явлением чего-то. Однако на это следует спросить: почему единственно познаваемые объекты называются явлениями, если в их основе должно лежать нечто непознаваемое? Отсюда видно, что термин «явление» сам хочет и должен включать вещь в себе как необходимый, дополняющий понятие элемент.
Вспомним кантовское слово о скептицизме как несерьезном мнении. И все же скептицизм остался бы прав, если бы не удалось успокоить его вопрос, усовершенствовать его метод. Мы, в самом деле, не могли бы утверждать причинность вещей в себе. Это исправление вносит критицизм. Вот простой смысл термина «явление» в отличие от вещи в себе: лишить скептицизм его силы. Скептический вопрос тем самым становится критическим. Каково может быть внутреннее состояние бильярдного шара, вызывающего удар, и другого, его испытывающего, – эта проблема скептицизма о «внутренних силах» (powers intrinsecals) снимается критическим термином. Причинность есть закон явлений, а не внутренней сущности бильярдных шаров.
Если бы Кант провел различие между явлением и внутренним содержанием вещей, проницательность его опровергателей обнаружила бы: критицизм учит лишь о внешнем в вещах. Но важно именно внутреннее свойство вещей. Другие, напротив, объявляют о раскрытии «сущности вещей». То значение, которое имеет или могло бы иметь возражение, что Кант учит лишь о внешнем в опыте, в точности совпадает с возражением: Кант учит о видимости вещей. Явление имеет миссию заменить скептицизм в ходе развития проблем. Делая природу materialiter spectata совокупностью явлений, оно делает ту же природу formaliter spectata совокупностью законов: оба решения проистекают из одного метода. А совокупность законов, соотнесенная с совокупностью явлений, есть совокупность вещей с полной ценностью объекта, то есть вещей в себе, познаваемых в природе явлений.
Однако все же остается вопрос: если закон безусловно означает вещь в себе, как это было засвидетельствовано в качестве объективной реальности, то для чего тогда, помимо этого знака познавательной ценности, еще и вещь в себе?
Тот, кто может быть убежден в том, что смысл трансцендентального идеализма есть эмпирический реализм, все же усомнится в полном отождествлении закона и вещи в себе. И справедливо; ибо вещь в себе означает больше, чем просто закон; она означает нечто, что, будучи аналогом всеобщего основания природного закона, не может быть исчерпывающе определено. Следовательно, помимо объективной реальности законов, должно существовать еще иное, возможно, более глубокое требование реализма, выражающееся в постулате вещи в себе. Мы можем по крайней мере предварительно допустить, что это требование исходит от самого реализма; что поэтому введение вещи в себе не означает неверности эмпирическому реализму Канта. Иными словами: что сами условия опыта, то есть основные законы опыта, все же подталкивают к собственному понятию вещи в себе.
Прежде всего, против вопроса: для чего вещь в себе помимо закона, помимо синтетических основоположений? – следует иметь в виду, что сам закон есть лишь истолкование вещи в себе. Объективная реальность, вещь в себе, которую мы ищем, предоставляется нам критическим методом в законе явлений. Но эти законы в своей трансцендентальной априорности имеют многократно обусловленное значение: они, во-первых, находятся в отношении к деловому понятию опыта, который они конституируют. Благодаря этому они также находятся в отношении к природе materialiter spectata, природе явлений; при этом субстантивном они являются адъективными. Следовательно, они все без исключения суть корреляты формального и материального понятия опыта. Последнее же выводится из данной научной эмпирии, посредством и на основании тех признаков, которые обусловливают ее как априорную; выводится, таким образом, из исторического факта науки.
Но сам этот опыт есть «нечто совершенно случайное»! Если отвлечься от каузального регресса явлений и взглянуть за его пределы, то открывается необозримая область «интеллигибельной случайности». Тот, кто хочет постичь причинность явлений в их внутреннем содержании, хочет постичь их случайность с точки зрения ноумена, тот помещает себя по ту сторону трансцендентальной колеи. Его можно сравнить с обитателем планеты, который захотел бы созерцать эллиптическую орбиту извне. Но с ним происходит то же, что с душами в «Федре», которые ослабевают при круговращении.
Таким образом, условия опыта обнаруживают себя как отношения к такому случайному. Таким образом, законы приводят к мысли об интеллигибельном нечто, к вещи в себе, в ином, но не менее настоятельном смысле, чем тот, который выражает закон.
В этом смысле следует понимать термин «пограничное понятие». Категория, основоположение суть позитивные условия опыта и делают возможными ассерторические суждения, суждения о бытии и небытии. Проблематическое понятие ноумена допустимо лишь в негативном понимании, как понятие о вещи, которая не есть объект чувственного созерцания, но лишь порождение категории. Как такое порождение, оно не произвольно, но как бы необходимо, если бы позволительно было говорить о необходимом за пределами применимости к образованиям созерцания.
И все же к этому переносу понятий опыта на понятие единства самого опыта побуждает неотвратимая схема нашего мышления. Так кажется, будто каждая категория имеет свой особый проблематический фон; но как только он захотел бы войти в опыт, он отсек бы категорию от кольца опыта, ту самую категорию, которая его породила. Если же вещь в себе снова отступает в фон, она тем не менее вновь вызывается. Таким образом, фон ограничивает область опыта. И все целое опыта парит над «бездной» интеллигибельной случайности.
В эти мысли должен углубиться тот, кто хочет понять проблематическое понятие ноумена в негативном смысле; вещь в себе как пограничное понятие.
Это выражение приобретает более точное значение благодаря различению между границей (Grenze) и пределом (Schranke).
«Границы (у протяженных существ) всегда предполагают пространство, находящееся вне определенного места и его ограничивающее; пределы не нуждаются в подобном, но суть простые отрицания, влияющие на величину, поскольку она не обладает абсолютной полнотой. Наш разум, однако, видит вокруг себя, так сказать, пространство для познания вещей самих по себе, хотя он никогда не может иметь о них определенных понятий и ограничен лишь явлениями». [13]
Математика и естествознание не имеют границ, ибо расширение познания в них идет в бесконечность, но они имеют пределы, ибо их объекты всегда остаются явлениями, и невозможно приблизиться к тому, что мыслится как высшее основание объяснения, как подоснова явлений.
«Естествознание никогда не откроет нам внутреннего содержания вещей… но оно и не нуждается в этом для своих физических объяснений; более того, если бы даже нечто подобное было предложено ему извне (например, влияние нематериальных существ), оно должно отвергнуть это и вовсе не вводить в ход своих объяснений, а всегда основывать их лишь на том, что принадлежит к опыту как объект чувств и может быть связано с нашими действительными восприятиями по законам опыта». [14]
Метафизика же ведет к границам.
Границы – лишь отрицания. В пределах же заключено также положительное.
«Но поскольку граница сама есть нечто положительное, принадлежащее как к тому, что находится внутри нее, так и к пространству, лежащему вне данного объема, то она все же представляет собой действительное положительное познание, которого разум достигает лишь посредством своего расширения вплоть до этой границы, однако без попытки переступить через нее, ибо за ней он обнаруживает пустое пространство, в котором, хотя и может мыслить формы вещей, но не сами вещи. Однако ограничение поля опыта чем-то, что в ином отношении ему неизвестно, все же остается познанием, доступным разуму с этой позиции, благодаря которому он не оказывается замкнутым внутри чувственного мира, но и не мечтает за его пределами, а, как и подобает знанию границы, ограничивается лишь отношением того, что лежит вне ее, к тому, что содержится внутри» [15]. Таким образом, ограничение есть сведение к отношению.
Следует особо отметить, что это определение границы разума осуществляется с явной отсылкой к скептицизму Юма. «Скептицизм изначально возник из метафизики и ее необузданной диалектики» [16]. Сначала он лишь предостерегал от выхода за пределы опытного применения, но затем поставил под сомнение и само это применение. «В этом нет нужды!» – однако возникший из-за этого хаос должен быть устранен посредством определения границы, дабы «предотвратить любой рецидив в будущем».
Это значение границы получило четкое выражение и в «Методологии» «Критики чистого разума». Совокупность всех возможных объектов нашего познания представляется нам «ровной поверхностью, имеющей свой кажущийся горизонт, а именно то, что охватывает весь ее объем» [17]. Эмпирически мы не можем достичь его, и все же все вопросы направлены на то, что «может лежать за этим горизонтом или, возможно, на его границе». Давид Юм был таким географом человеческого разума, который отсылал все эти вопросы за пределы горизонта: «который он, однако, не мог определить». Кант называет этот подход «цензурой разума». Таким образом, Просвещение становится административной инстанцией.
Критика же, напротив, не просто указывает на пределы, но определяет границы. Скептицизм – это «место отдыха для человеческого разума, где он может осмыслить свое догматическое странствие и набросать план местности, в которой находится, чтобы в дальнейшем избрать свой путь с большей уверенностью; но не место постоянного пребывания, ибо таковое можно обрести лишь в полной достоверности – будь то познание самих объектов или границ, внутри которых заключено все наше познание объектов».
Поэтому Кант в своей географической и математической образности сравнивает разум не с неопределенно широко раскинувшейся равниной, «чьи пределы познаются лишь в общих чертах», а со сферой, «радиус которой можно найти по кривизне дуги на ее поверхности (природа синтетических суждений a priori), откуда, однако, с уверенностью можно указать и ее содержание, и ее границы». Природа синтетических суждений a priori раскрывает, в частности, центр опыта в трансцендентальной апперцепции как высшем принципе всех синтетических суждений, лучи которых суть отдельные синтетические основоположения. По этим радиусам можно определить границы опыта.
Благодаря этой более строгой трактовке понятия границы сохраняется трансцендентальное значение вещи самой по себе, и ее обозначение как трансцендентального объекта оправдано. Перед вопросом о том, какой избыток реальности, помимо устанавливаемой законом, остается для вещи самой по себе, мы понимаем, что Кант мог счесть выражение «объект» для пограничного понятия неуместным.
«Ноумен также нельзя назвать таким объектом, ибо это означает лишь проблематическое понятие о предмете для совершенно иного созерцания и иного рассудка, чем наши, – следовательно, само являющееся проблемой. Понятие ноумена – это не понятие объекта, а неизбежно связанная с ограничением нашей чувственности задача: могут ли существовать предметы, полностью свободные от этого нашего созерцания» [18]. Теперь пограничное понятие ноумена становится задачей ограничения.
Согласно основополагающему для всего аппарата критики разума различию между чувственностью (Sinnlichkeit) и рассудком (Verstand), исследуемое отношение можно, пожалуй, обозначить следующим образом: чувственность ограничивает наше познание, то есть делает его зависимым от восприимчивости к так называемым впечатлениям, от модификаций нашего сознания. Рассудок, напротив, ограничивает чувственность, а тем самым и опыт.** Он предоставляет этой восприимчивости соответствующее коррелятивное основание (Grund). Однако это основание не дано объективно; оно, тем не менее, является неизбежной задачей разума; это – покров над бездной, которую обнажает интеллигибельная случайность (intelligible Zufälligkeit).
И потому эта пограничная вещь (Grenzding) не есть объект в смысле закона. Ибо закон – это решение задачи для калькуля эмпирической необходимости (Calcül der empirischen Notwendigkeit); а та вещь – это вечно нерешаемая и всё же неустранимая задача: сделать интеллигибельной случайности глубокомысленную уступку критики, дабы не впасть в юношескую цензуру скептицизма.
Таким образом, доказано и то, и другое: во-первых, вещь в себе (Ding an sich) осуществляет ограничение опыта, то есть «отношение к чему-то, что само не есть предмет опыта, но должно быть высшим основанием всего опыта» [19]. А во-вторых, эта задача неизбежна наряду с тем видом вещи в себе, который закон обозначает как выражение объективной реальности. Сам закон есть выражение, есть истолкование вещи в себе, но в пределах сферы опыта.
Если же в такой связи признать установление вещи в себе естественным следствием этих систематических мыслей, то тем строже следует помнить, что вещь в себе есть исключительно и только следствие условий опыта. Вещь в себе – не абсолютное, которое могло бы отрицать рассудок как свой источник; рассудок, который есть также «творец природы» (Urheber der Natur). Как таковое, её вообще нельзя было бы полагать; и трансцендентальному методу недостаточно было бы просто избегать её описания. Напротив, как задача, вещь в себе требуется категорией. Однако категория может её создать лишь в силу своей всеобщей связи с чувственным данным созерцания.
Кант всегда лишь выражает сомнение: если бы у нас не было чувственности; если бы категория, как понятие о предмете вообще, не относилась к чувственному явлению согласно трансцендентальной схеме – мыслилась ли бы в таком случае вещь в себе? В том, что без синтетического единства она немыслима, нет сомнения. Неизвестно, «находится ли она в нас или вне нас, устраняется ли вместе с чувственностью или остаётся, если мы её устраним» [20]. «Между тем мы можем назвать чисто интеллигибельную причину явлений вообще трансцендентальным объектом – просто чтобы иметь нечто, соответствующее чувственности как восприимчивости» [21]. Таким образом, для вещи в себе чувственность есть единственное проблематичное предпосылаемое.
Напротив, вне всякого сомнения, что без понятия о предмете вообще нельзя было бы мыслить и тот особый вид предмета, который мы называем вещью в себе, чьё значение, однако, заключается в ограничении. Следовательно, это не столько ещё один предмет, который мы получаем через это понятие, сколько ряд точек, в которых предметы опыта достигают своей границы. Вещь в себе обозначает не объект, а средство познания объектов; средство, которое синтетический принцип, совокупность законов природы, не способен предоставить и не делает излишним. В выявлении этой ценности – методического средства для эмпирического применения – состоит трансцендентальное значение вещи в себе, значение вещи в себе как пограничного понятия (Grenzbegriff).
Однако прежде чем это может быть доказано, необходимо показать, что другие, якобы объективные значения вещи в себе несостоятельны.
***
[1] Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolf. I, 493. D Kleinere Schriften zur Logik und Metaph. III Abt. S. 88.
[2] Kritik der reinen. Vernunft S. 235. D 302 f.
[3] Ib. S. 351. D 444.
[4] Harms, Philosophie seit Kant S. 187.
[5] Kritik der reinen Vernunft S. 56. D 75.
[6] Ib S. 113. D 148.
[7] Prolegomena S. 55. D 80.
[8] Kritik der reinen Vernunft S. 171. D 194.
[9] Kritik der reinen Vernunft S. 85. D 110.
[10] Geschichte des Materialismus 2. Auflage, II, S. 131.
[11] Kritik der reinen Vernunft. S. 225 ff. D 290 ff.
[12] Kritik der reinen Vernunft S. 135. D 176.
[13] Prolegomena III, S. 126. D 123.
[14] Ib. S. 127. D 124.
[15] Ib. S. 136—137. D 133—134.
[16] Ib. S. 125. D 121.
[17] Kr. d. r. V. S. 504. D 633.
[18] Kritik der reinen Vernunft S. 240—241. D 310.
[19] Prolegomena III, S. 138. D 135.
[20] Kritik d. r. Vernunft S. 241. D 310f.
[21] Ib. S. 349. D. 441.
Вторая глава. Трансцендентные объекты трансцендентальных идей
Разум измыслил множество способов не для того, чтобы избежать пропасти интеллигибельной случайности, но чтобы успокоить требование, возникающее из неё, посредством кажущегося объективного решения.
Мы попытаемся представить себе виды вещи в себе, исходя из кантовских различений, не принимая пока во внимание дальнейшие искусственные средства для их выведения.
Если трансцендентальный метод учит нас познавать вещи, совокупность которых мы мыслим как материальный мир, как явления, то есть понимать неизбежную и коррелятивную связь, в которой объекты находятся с созерцающе-мыслящими субъектами, то здесь снова проявляется амфиболия рефлективных понятий; и то, что трансцендентально является первым – форма, – оттесняется на второй план перед первым догматического реализма – материей. Независимо от формы созерцания и существующее помимо неё, понятие объекта вообще требует первоосновы всей объективности, вещи в себе внешних явлений, ноумена мирового понятия.
Но и внутренние явления требуют своего трансцендентного объекта. Наш собственный субъект, как его раскрывает внутреннее чувство, как только оно может его раскрыть, как только оно способно подготовить ему содержание в смене его представлений, – субъект этих внутренних созерцаний есть лишь явление, лишённое содержания, пустое без того материала, которым мы наполняем душу. Но субъект, совокупность этих представлений, должен быть чем-то большим, чем просто мыслимая сумма этих изменчивых событий, должен быть неким нечто, в котором находится то, что является в нас, нечто, чьим основанием, чьим отражением является внутреннее явление. Трансцендентальному объекту = x должен соответствовать трансцендентальный субъект = x, назовём ли мы его «Я», «Он» или «Оно» [1]. Подобно тому как рассудок завершает своё отношение к «многообразию объекта в явлении» [2] в ограниченной мировой тотальности, так и отношение понятия объекта вообще к многообразию в субъекте ищет своего конца и точки покоя в субстанции души. Это второй вид вещи в себе, вещь в себе внутренних явлений, ноумен рациональной психологии, психологического спиритуализма.
Наконец, остаётся ещё одно отношение категории к объектам, поскольку они вовсе не должны быть явлениями, но самовыражениями категории, «объектами мышления вообще». Эти виды объектов вообще не относятся к созерцаниям, они – порождения категории до и без того, как они приведены в согласие с формальным условием чувственного. Это отношение создаёт связь со «всеми вещами вообще», даже с теми, которые никогда не станут объектами опыта. Вещь в себе, в которую вливается это отношение, обозначается как сущность всех сущностей.
Стоит обратить внимание на то, что и в этом случае чувственность образует коррелят вещи в себе. Хотя ноумен абсолютной реальности есть продукт отношения, возникающего исключительно в категории, в мысли объекта вообще, с отказом от ограничения эмпирическим объектом; хотя он обозначает лишь первооснову всего мыслимого, тем не менее он является противоположностью чувственного, что придаёт даже этой первооснове тип существования. И вот из этого неизбежного основополагающего отношения к чувственному, которое сохраняется даже у этого ноумена, объясняются многообразные переплетения и пересечения его с космическими элементами; и даже исторически наиболее значимое явление – возвышение монотеизма до пантеизма, которое по крайней мере в определённом отношении следует признать таковым, – становится понятным благодаря этому изначальному отношению.
Таковы три объекта, которые лишь метафорически носят имя объекта, три выражения вещи в себе. Кант не использует эту терминологию, [3] и тем более следующую, под которой мы хотим проиллюстрировать эти три сверхпонятия: мир есть вещь в себе внешних явлений; душа – вещь в себе внутренних явлений; Бог – вещь в себе всего мышления вообще. Однако все три – не просто формулировки задачи, выраженной в вещи в себе, но попытки её решения. Поэтому говорить о трёх видах вещи в себе не совсем безобидно. Мы имеем в виду три способа попыток удовлетворить абсолютной объективации того требования, которое формулирует термин «вещь в себе».
Все три являются применениями категории как понятия объекта вообще; но применениями, простирающимися до границы применимости, то есть обозначающими лишь предельное значение. Это расширения законного употребления категорий. И такие расширенные категории Кант называет трансцендентальными идеями.
Согласно старому представлению о значении трансцендентального, отрицательный смысл этого определения усматривали бы в прилагательном; однако он заключается в значении идеи. Идея, или понятие разума, есть понятие, составленное из ноций, из чистых понятий, возникающих исключительно в рассудке, «которое превосходит возможность опыта» [4]. К этому превосхождению побуждает беспокойство синтетического единства, и не только в причинном регрессе, хотя здесь это становится наиболее очевидным.
Все те категории, значение которых есть выражение отношения, ведут и толкают к такому бесконечному ряду. Однако если фундаментальное отношение к чувственному отвергается, схематизация, почва созерцания, то теряется право измышлять понятие отношения, «аналогию» субстанции. Ведь постоянство, главный момент субстанции, может быть установлено лишь из созерцаемого ради нужд опыта. Там, где это превзойдено, возможность субстанции не может начаться. Достаточно подумать, как этим понятием субстанции поражается весь картезианство, даже в пантеизме.
А. Идея Бога.
Наиболее очевидно это гетеротопическое расширение понятия субстанции проявляется в идеале разума. Идеал разума есть совокупность всей возможности, которая мыслится как условие всеобщего определения каждой вещи, как материя всякой возможности. Всеобщее определение делает вещь собственно вещью: согласно принципу этого определения, каждой вещи из всех возможных предикатов вещей должен принадлежать один; таким образом, мыслится вся совокупность возможности, и определяется отношение к ней. Следовательно, принцип всеобщего определения отличается от принципа определимости, как закон противоречия – от высшего синтетического принципа.
Принцип определимости лишь исключает, и то одну из двух противоречащих определений; принцип всеобщего определения включает по меньшей мере одно из всех возможных определений. Определимость касается понятия; определение создаёт вещь; первое подчинено всеобщности логического принципа исключённого третьего, второе – всеобщности или совокупности всех возможных предикатов.
Эта совокупность, это всеобъемлющее единство есть идеал, то есть идея не только in concreto, но и in individuo. Это всеобъемлющее единство реальностей есть ens realissimum, как высшее и полное материальное условие возможности всякого существующего. Это – «единственный подлинный идеал, на который способен человеческий разум» [5]. Только в этом единственном случае понятие индивида определено всесторонне. Этот субстрат всей реальности, как ограничения которого можно было бы пытаться понимать вещи, подобно тому как все фигуры лишь ограничивают бесконечное пространство, остается, однако, будучи однажды мыслим как индивид, не совокупностью возможности: он становится ее основанием; он гипостазируется в первоначальное существо, в высшее существо, в существо всех существ.
Шаг к гипостазированию исходит из реализации. Но была ли вообще допустима эта реализация? Является ли совокупность всех возможностей объектом, а не просто понятием, «представлением» индивида? Попытка мыслить эту всеобщность реальности как объективно данную в одной вещи – «есть чистая выдумка, посредством которой мы сводим многообразие нашей идеи в одном идеале, как особом существе, и реализуем его, на что у нас нет никакого права, даже нельзя прямо допустить возможность такой гипотезы, как и все выводы, проистекающие из такого идеала, касающиеся всестороннего определения вещей вообще, ради которого только и была нужна идея, не имеют к этому ни малейшего отношения и не оказывают ни малейшего влияния» [6]. На всестороннее определение вещей это гипостазированное индивидуальное реальное, конечно, не влияет; ибо все вещи лежат в «едином всеобъемлющем опыте»; но та совокупность всей реальности ставится трансцендентальной подстановкой на «вершину возможности всех вещей», а тем самым – на границу опыта; или даже, пожалуй, на его предел; ибо то, что хочет утвердиться как вещь на этой границе, что хочет быть больше, чем пограничным понятием, помещает себя по ту сторону области возможного опыта.