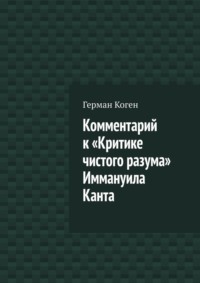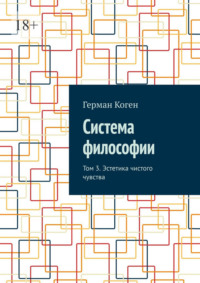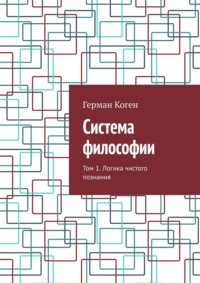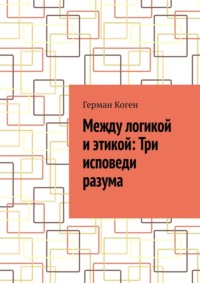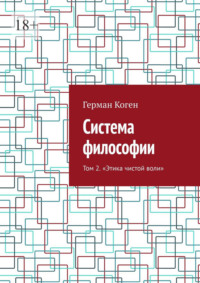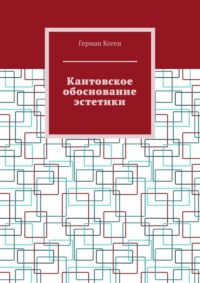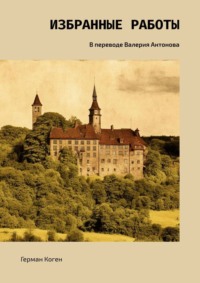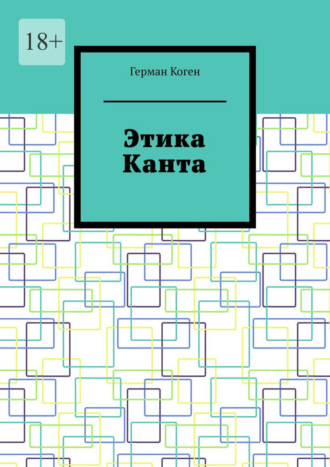
Полная версия
Этика Канта
Один из следующих разделов специально рассмотрит этот вопрос. Здесь же следует лишь указать на значение, которое noumenon мира имеет для трансцендентального идеализма.
Критическое значение космологических идей состоит прежде всего в том, что они вовлекают разум в противоречие его логических средств. Для всех четырех космологических тезисов и антитезисов можно привести одинаково убедительные доказательства. В то время как в случае прежних идей возникал простой паралогизм и очевидный идеал, здесь возникает антиномия разума. Следовательно, с миром должно обстоять так же, как с круглым квадратом, о котором можно доказать как то, что он круглый, так и то, что он не круглый. Мир становится логической нелепостью. Антиномия является косвенным доказательством идеальности явлений. Мир растворяется в рядах синтеза.
Наряду с этим преимущественно отрицательным результатом, антиномия имеет, однако, и положительную ценность – подготовить и раскрыть подлинное значение вещи в себе, если не показать его. Если бы не существовало требования, задачи вещи в себе, то и тезис, и антитезис следовало бы одинаково отвергнуть – как в случае мировых, так и природных понятий. В первом случае это критический приговор. Ибо математические понятия требуют однородности связываемого в понятии величины. Антиномии же их состоят именно в том, что явление и вещь в себе представляются совместимыми в одном понятии. Поэтому оба утверждения, заключенные в этой амфиболии, ложны.
Динамические же понятия, касающиеся существования, не требуют однородности. Действие может быть нечто неоднородное причине. Поэтому то, что утверждает тезис, вполне может относиться к вещи в себе как к неоднородной причине явления, тогда как к последнему без исключения относится то, чему учит антитезис. Оба утверждения, таким образом, совместимы; и это – положительный результат космологической идеи, которая делает возможным предикат тезиса для вещи в себе. Из рядов космологического синтеза вытекает, таким образом, значение вещи в себе, которое выходит за пределы области чувственного мира и подготавливает то значение идей, согласно которому они уже не кажутся «только идеями», но возвышаются до познавательных ценностей, до степеней достоверности.
Для догматического реализма высшие объекты уничтожаются как химеры, когда они превращаются в идеи. Ибо для него нет иной реальности, кроме материальной. А то, что он претендует освободить от материального, все же остается антропоморфным. Поэтому кантовское выражение метко, что он «впоследствии играет роль эмпирического идеалиста» [30]. Мы же, исходящие не из опыта как orbis pictus, указываем на то, что если объекты идей трансцендентны, тем не менее идеи могут быть трансцендентальными.
Прежде, однако, чем можно будет провести это рассуждение о том, какая познавательная ценность присуща идеям, поскольку они называются трансцендентальными, мы подвергнем логическое выведение этих идей подробному рассмотрению.
Ссылки:
[1] Критика чистого разума, с. 276. D 352.
[2] Там же, с. 269. D 343.
[3] Однако в одном месте встречается сходный оборот. В Метафизических началах учения о праве сказано: «Всякий факт (действительность) есть предмет в явлении (чувств); напротив, то, что может быть представлено только чистым разумом, что должно быть отнесено к идеям, которым ни один предмет в опыте не может быть адекватно дан, как, например, совершенное правовое устройство среди людей, – это вещь в себе самой» (S. W. IX, с. 150. D Метафизика нравов 206). Здесь даже совершено отождествление вещи в себе и идеи. На этом следует остановиться позже.
[4] Критика чистого разума, с. 261. D 333.
[5] Там же, с. 396. D 500. Определение «собственно» оставляет возможность идеала для эстетики открытой.
[6] Там же, с. 398. D 503.
[7] Там же, с. 416. D 525.
[8] Там же, с. 417. D 527.
[9] Там же, с. 418. D 527.
[10] Основы естественного права, P. W., т. III, с. 57.
[11] p. 596 E; 597 E.
[12] Основы естественного права, S. W. III, с. 3.
[13] Критика чистого разума, с. 595. D 740.
[14] Критика чистого разума, с. 9, 10. D 18.
[15] Там же, с. 606. D 753.
[16] Там же, с. 285. D 364.
[17] Там же, с. 118. D 154.
[18] Там же, с. 120. D 156.
[19] Там же, с. 131. D 169 f.
[20] Там же, с. 590. D 734.
[21] Пролегомены III, с. 103. D 100.
[22] Критика чистого разума, с. 617. D 766.
[23] Там же, с. 279. D 355f.
[24] Пролегомены III, с. 99. D 96.
[25] Критика чистого разума, с. 595. D 740.
[26] Там же, с. 604. D 751.
[27] Там же, с. 607. D 754.
[28] Там же, с. 608. D 756.
[29] Там же, с. 612. D 760.
[30] Там же, с. 598. D 744.
Третья глава. Выведение трансцендентальных идей из видов умозаключений
Мы уже подробно рассмотрели идеи с точки зрения того, что они не должны означать, и вкратце коснулись их положительного значения, о чем подробнее будет сказано в следующей главе. Однако до сих пор не говорилось о том, что Кант дал особое выведение идей, соответствующее его терминологическому аппарату, и что возникновение и значение идей в предыдущих рассуждениях не было сведено к этому.
Намерение этого умолчания очевидно. С самого начала нужно было наглядно противостоять дешевому и в то же время трудно устранимому предрассудку о кантовской символике понятий. Этот предрассудок нельзя воспринимать легкомысленно, ибо в нем выражается не что иное, как сомнение в возможности априорного познания. В этом свете, например, комичный вопрос о том, было ли априорное открыто априорно, свидетельствует лишь о высшей степени трансцендентальной глупости.
По так называемой «природе вещей» идея так же мало содержится в умозаключении, как категория – в суждении. Обе должны быть обнаружены в своих формах мышления посредством очень тонких предвосхищений. Это требует значительного логического искусства и трудоемких апостериорных размышлений. Стремление создать видимость волшебства в этих исследованиях было бы более чем бесполезным занятием; при всё ещё не улучшенном общем понимании вопроса об априорности это могло бы ввести в заблуждение. Поэтому до сих пор мы рассматривали идеи без ссылки на их выведение из тех форм научного мышления, в которых они становятся типичными вспомогательными средствами.
Их три; именно на эти три обращает внимание Кант. И если в случае психологической идеи и идеи Бога связь с этикой выражена яснее, то включение трансцендентных понятий природы в мировую идею показывает, что речь идет не только о материи, о материальном мире в этой космологической идее, но что она предстает как частный случай в том многообразном ряду синтезов, один из которых мы называем миром. Таким образом, нельзя не заметить, что и космологической идее приписывается, вменяется в обязанность исключительно положительное значение. На эти три идеи Кант основывает тот вид позитивного, который остается для них после того, как трансцендентальная диалектика разрушила трансцендентные объекты. Это – высшие понятия старой метафизики. Это – понятия, к которым интерес к метафизике будет неразрывно привязан. Попробуйте придумать другие. Очень скоро станет ясно, что с изменением имени меняется не только имя: меняется понятие проблемы. Но, несмотря на это, проблема по своему мотиву остается той же, хотя ее понятие изменяется и совершенствуется.
Таким образом, критический смысл и ценность идей уже были обсуждены до того, как мы представили их выведение. Однако это выведение не имеет иного смысла, кроме как смысла трансцендентальной дедукции. Если его нужно восполнить, то лишь в том смысле, что требуется дальнейшее подтверждение назначения и ценности этих мыслей во всем аппарате познания. Следовательно, выведение идей из умозаключения по его видам, если наше предыдущее изложение ценности и смысла идей было верным, должно привести к тому же выводу. Поэтому видимость искусственного привлечения формальных средств тщетна и необоснованна. Чем с большего числа сторон и чем универсальнее в широте мышления эти идеи постигаются и раскрываются, тем очевиднее становится и должна становиться их применимость в экономии познания.
Только в этом смысле следует подходить к данному выведению из умозаключений. Ибо это должно быть так же тривиально, как и ясно: Кант не хотел создавать впечатление, будто те идеи, возраст которых исчисляется тысячелетиями, были порождены психологической силой определенной им способности разума. Однако его мнение, и настоящее глава должна развить его как наше мнение, состоит в том, что мотив этих идей тот же, что и мотив того вида мышления, который мы называем умозаключением.
Здесь нельзя не коснуться в максимально краткой форме вопроса об отношении, которое существует, с одной стороны, между категориями и основоположениями, а с другой – между категориями и видами суждений.
Согласно разъяснениям (выше, с. 32) о проведении различия между априорным в метафизическом и трансцендентальном смысле, не может быть сомнений в том, что априорность категорий основывается на основоположениях. В нашем первом изложении этого ключевого момента (1871) мы, конечно, достаточно подчеркнули это; однако при этом осталась неясность, поскольку, с другой стороны, мы утверждали априорность не столько категорий, сколько категории, синтетического единства. В этом взгляде сохранился остаток того смешения метафизического и трансцендентального, которое мы уже отвергли в нашем первом изложении «Теории опыта Канта». Представление о незаменимости синтетического единства для любого суждения, которое, таким образом, является подлинным априори, свидетельствует лишь о приверженности метафизическому априори. Но то, что кажется психологически необходимым, не является поэтому трансцендентально обусловливающим. В смысле метафизического априори категория обладает априорностью в большей степени, чем категории; в трансцендентальном же смысле априорными считаются только категории как ключевые моменты основоположений. Однако то, каким образом основоположения осуществляют эту связующую силу своего нормативного характера в человеческом мышлении, строго говоря, является вопросом субъективной дедукции. После этого развития вопрос об априорности категорий углубляется в вопрос об априорности основоположений.
Эту более точную формулировку следует отнести на счет А. Штадлера, который подчеркнул, что благодаря доказательству категорий как синтетических единств в основоположениях они стали независимыми от таблицы суждений и ее правильности. «Тот, кто сомневается в обоснованности таблицы суждений, ошибается, если полагает, что его сомнения затрагивают и категории» [1]. «Аналитика понятий выводит категорию, аналитика основоположений – категории» [2]. Однако к этой мысли я должен добавить одно соображение.
Действительно, не случайно, что суждения дают функцию единства, а основоположения – ее виды, категории. Конечно, это был бы «грубый круг», если бы таблицу суждений, установленную согласно метафизическим критериям, положить в основу выведения категорий и основоположений. Поэтому можно, пожалуй, назвать выведение из таблицы суждений «излишним»; однако оно от этого не становится «совершенно бессмысленным». Откуда же тогда этот параллелизм? Не должна ли та же самая мысль, которая, после того как синтетическое единство обнаружено в суждении, стремится установить его виды, направлять систематику основоположений и суждений? Имеют ли, например, модуальные основоположения иное мыслительное основание, чем модуальные суждения? Выражается ли в основоположении о субстанции иная мысль, чем та, которая высказывается в категорическом суждении? Вообще говоря: не существует ли повсеместного соответствия тенденции между формальной схемой суждения и основоположением, в котором она становится типом для особого познания? Этот параллелизм, который, кажется, означает тождество, мог побудить Канта принять таблицу суждений за норму и для отдельных категорий. Однако мы можем принять этот способ развития лишь с оговоркой, что центр тяжести усматривается в таблице основоположений, что, собственно, систематика основоположений порождает категории; но при этом нельзя упускать из виду, что тот же самый изначальный закон, который действует в основоположениях, проявляется также и в схемах суждений.
Это соображение представляется нам важным для формальной логики, независимо от вопроса о структуре кантовских дедукций. Таблица суждений, таким образом, явным образом ставится в зависимость от требований критики познания. И с этим первым применением занимается твердая позиция в споре о реформе логики. Эта реформа никогда не прекращалась. Как она была предпринята Аристотелем, систематизировавшим формальную логику, так и последняя постоянно реформировалась при смене систематических воззрений; а неизменное в ней сводится к немногим высшим положениям и правилам, которые, в свою очередь, различаются и упраздняются в своих изменяющихся формулировках. Однако классификация суждений полностью зависит от систематических соображений. В противном случае безличные суждения входили бы в логику в той же мере, что и суждения отношения, и различие между грамматикой и логикой оставалось бы несостоятельным.
Далее: что же это за суждения, с которыми оперирует формальная логика? Это всего лишь схемы суждений. А что такое основоположения? Это типы суждений, которые выражаются в неопределенно многих единичных суждениях. Эти типы отличаются от схем лишь тем, что они охватывают материю суждений в универсальной мысли, тогда как схемы описывают лишь формальную процедуру. Так, основоположение причинности, как тип всех каузальных суждений, отличается от схемы гипотетического суждения. Но в единичном каузальном суждении содержится не больше мысли о причинности, чем в основоположении причинности – от гипотетической схемы.
Таким образом, мы понимаем синтетическое единство, которое проявляется в схеме гипотетического суждения, о котором говорит формальная логика, – единство, которое в себе и через себя порождает этот своеобразный вид суждения, и точно так же, как то же самое, является действующим нервом в основоположении причинности, порождая в себе и через себя это основоположение опыта. В этом пункте трансцендентальное a priori соприкасается с метафизическим. Необходимо учитывать это соприкосновение, но следует избегать того, чтобы оно привело к смешению свойственных каждому из них мотивов. Однако ни в коем случае страх перед этим не должен препятствовать осуществлению того. С одинаковой точностью нужно удерживать в поле зрения как центр тяжести дедукции, так и точку единства в двух основных формах мышления – формальном шаблоне и формальном законе.
Это рассуждение мы можем теперь сразу же применить к ответу на вопрос, который привел нас к нему.
Подобно тому как категории узнаются в типах основоположений и схемах суждений как синтетические единства, так и расширенные категории – идеи – зависят прежде всего от критико-познавательного значения трех диалектических понятий. Но поэтому не должно казаться искусственно надуманным, если этим сверхпонятиям будет указан их прототип, их психологический шаблон в своеобразной операции человеческого мышления. Скорее, должно было бы вызывать удивление, если бы, помимо категорий, действующих в суждениях, не существовало форм мышления, которым они соответствуют и в которых они действуют.
А с другой стороны: с какой целью формальная логика рассматривает шаблон силлогизма, механизм умозаключения, если в этом способе операции не содержится определенный, определяющий познание характер? Показать это – значит дать критико-познавательное оправдание этой части формальной логики. Критико-познавательный смысл идей заключается в их своеобразии обозначать вещь в себе, истолковывать ее требование: в этом истолковании они образуют аналогию с основоположениями, и этому аналогу основоположений соответствует по аналогии суждений умозаключение, в котором действует мысль идеи.
Наша задача, следовательно, будет состоять, во-первых, в том, чтобы показать, что в умозаключении действительно выражается та же самая мысль, которая в идее стремится обрести своеобразный вид закономерности, критико-познавательный тип. Во-вторых, доказать, что трем определенным идеям соответствуют три вида умозаключения. Согласно этой теории соответствия, нужно будет сказать точно так: трем идеям должны соответствовать три вида умозаключений, и тогда они и есть три вида умозаключений. Таким образом, в критико-познавательном мотиве идеи обнаруживается критерий для классификации силлогистики. Ибо какую другую цель могла бы преследовать формальная логика в этой главе, как не разработку шаблона, точно соответствующего установкам критико-познавательных потребностей?
Вместе с тем при этом доказательстве, к которому мы теперь приступаем, выяснится и следующее: что в этом выведении идей из умозаключения по его видам мысль о вещи в себе углубится в субъективном отношении так же, как это было видно при выведении категории из таблицы суждений.
В самом деле, можно было бы подумать, что если бы не специфическая цель познания, выделяющая эту форму мышления, то умозаключения как составные суждения рассматривались бы в учении о суждении. И те, кто так безмерно порицает неуклюжесть Канта в употреблении психологических терминов, особенно при установлении особой способности разума для умозаключений, должны спросить себя, хотят ли они и дальше считать эту главу формальной логики особой; подобно тому как непосредственные умозаключения обычно еще причисляют к суждениям. То же самое критико-познавательное основание, которое оправдывает эту особую главу, одновременно извиняет и эту особую, казалось бы, чисто психологическую познавательную способность.
Представим себе, без всяких предварительных предположений о ценности силлогизма и индукции, своеобразие умозаключения в связи синтетического мышления. Простейший синтез – это суждение. Это опосредованное, через понятие, а не данное непосредственно в созерцании познание объекта; это «представление представления». [3] Однако мышление нуждается в более быстрых средствах для своих синтезов, чем те, которые предоставляют и допускают эти опосредования. Ибо синтетическому суждению, поскольку оно не касается чистого созерцания, должен быть предъявлен объект восприятия, с которым оно должно связать другой объект или состояние восприятия. Эта связь устанавливается чистым рассудочным понятием; и благодаря этой связи, основанной на категории, объект восприятия становится объектом опыта. В силу категории причинности я могу сказать: солнце нагревает камень, не зная, как оно это делает и что при этом происходит с камнем.
В суждении достигается великое; но нам нужны более широкие синтезы. Нам недостаточно на основе одного из чистых рассудочных понятий установить синтез суждения: мы привыкли устанавливать связь явлений через их подчинение общему положению, причем не только субальтернативное. Тем самым возникает вопрос о правомерности этого общего положения. Мы не хотим ждать, пока на собственном опыте убедимся, что Кай, доведенный в логических примерах до смерти, действительно умирает; а подводим его, как человека, под правило смертности. На какую закономерность опыта опирается это правило, эта большая посылка, на которую силлогизм утверждает право основывать необходимость?
Или, может быть, словечко «все» вовсе не понималось буквально? Но тогда и умозаключение относительно Кая было поспешным. Большая посылка не может укрыться за синтетическим основоположением. Ибо оно, как таковое, ограничено возможностью опыта. Однако эта возможность не отменяется, если данный в Кае элемент живой силы оставался бы навеки изъятым из перехода в силу напряжения. Следовательно, большая посылка должна означать нечто большее, более широкое и всеобъемлющее, чем то, за что может ответить синтетическое основоположение.
При затруднениях такого рода в философском словоупотреблении обычно появляется выражение «принцип».
Как ни странно, Кант, не зная об «индуктивной логике» – выражении бессмыслицы, которое даже самая похвальная тенденция не может узаконить, – объявил термин «принцип» «двусмысленным». Большая посылка в силлогизме не является принципом; разве что «сравнительным». Точно так же и положение о том, что прямая линия есть кратчайшая между двумя точками. Даже такой относительный принцип может быть познан лишь в чистом созерцании. Наконец, синтетические основоположения тоже нельзя назвать принципами; хотя они и делают возможными синтетические познания в своих понятиях, но сами требуют отношения к созерцанию. Давать возможность синтетических познаний исключительно из понятий – вот значение подлинного принципа. Рассудок не способен на это со своими основоположениями. Остается лишь вопрос: может ли разум со своими идеями гарантировать такие синтетические познания. Ибо идеи – это те понятия, из которых должно черпать то познание, в котором отказано основоположениям рассудка.
Поскольку же в силлогизме идеи действуют как такие принципы, через него делается вывод из понятий; точнее было бы сказать: через понятия по принципу из большей посылки. Ибо лишь в переносном смысле, поскольку большая посылка представляет то, что в ней содержится и что, следовательно, должно в ней мыслиться, только в этом отношении сама большая посылка может называться принципом. Если поэтому Кант называет познание из принципов тем, «где я познаю особенное в общем через понятия» [4], то в понятии следует мыслить принцип как соприсутствующий. То понятие человека, которое, поскольку под него подводится Кай, обусловливает смертность последнего, не есть эмпирическое, индуктивно приобретенное понятие человека, ни априорное, которого у человека быть не может: это есть расширенное по принципу понятие человека, выраженное через «все»; его правомерность, следовательно, сомнительна.
Этот вопрос, который уже древний скептицизм поставил у эмпирика Секста, касается в равной мере как индукции, так и силлогизма. Также и Дж. Ст. Милль ясно осознал это требование и понял его как наследие индукции: что и каждый индуктивный вывод, не только так называемый силлогизм, имеет такое принципиальное скрытое предположение. Только мы не сможем согласиться с его формулировкой этого латентного принципа как «аксиомы о единообразии хода природы» [5]. Ибо это предвосхищение, совершенно независимо от двусмысленного выражения его содержания, содержит больше, чем нам нужно для указания на этот вид синтезов; следовательно, излишнее для объяснения этого своеобразного способа мышления. Но что в каждой большей посылке кроется такой принцип, по которому делается вывод из среднего термина большей посылки, этого Дж. Ст. Милль не упустил, а признал как основание индукции. «Мы хотим сначала заметить, что в установлении того, что есть индукция, заключены принцип, предположение относительно хода природы и порядка во вселенной» [6]. Если, соответственно, каждая индукция есть силлогизм, где принцип представляет большую посылку, то различие между силлогизмом и индукцией в критико-познавательном смысле тем самым снимается.
Таким образом, для индукции, как и для силлогизма, остается вопрос: как понимать, что «природа вещей должна подчиняться принципам и определяться лишь понятиями»? Характеризуя трансцендентальный образ мыслей, это выражение гласит, что в его требовании «если не нечто невозможное, то по крайней мере весьма противоречивое»? Очевидно, что умозаключение разума – мы используем разум как собирательное понятие для этого вида вывода, достаточно отличного от непосредственного способа вывода – вовсе не направлено на единство явлений; ибо он их перелетает. Скорее, единства рассудка являются его материалом, который он хочет подвести под высшие единства, под единства разума, под принципы. Удается ли ему это? Прежде всего следует заметить, что умозаключение разума стремится к этому выводу из вышестоящего высшего единства; что оно не может хотеть ничего другого, потому что ему ничего другого не остается для собственной операции. Таким образом, такова его логическая значимость: «что разум в умозаключении стремится привести великое многообразие познаний рассудка к наименьшему числу принципов (общих условий) и тем самым осуществить их высшее единство» [7]. «Единства разума» и есть эти высшие единства.
Вопрос лишь в том, может ли разум произвести такое поистине всеобщее условие, установить такое высшее единство. В терминологическом языке этот вопрос звучит так: есть ли помимо логического также «чистое» применение разума. Это единство принципа может быть весьма желательным; но есть опасение, «что субъективная необходимость определенной связи наших понятий в пользу рассудка принимается за объективную необходимость определения вещей самих по себе» [8]. Быть может, эта «претензия» разума «больше претензия, чем постулат»; она, возможно, «лишь субъективный закон хозяйствования с запасом нашего рассудка, сводящий посредством сравнения его понятий их всеобщее применение к наименьшему возможному числу таковых» [9]. Но такой основоположение, возможно, не выражает никакого закона о вещах, не содержит основания их объективной возможности. Это сомнение проникает в глубины терминологической структуры системы. Оно ведет к расширенному понятию опыта. Перед лицом этой серьезной трудности мы хотим медленно и осторожно проложить путь к ее преодолению.