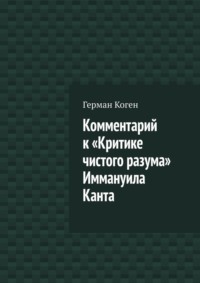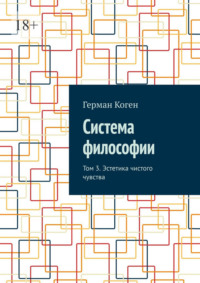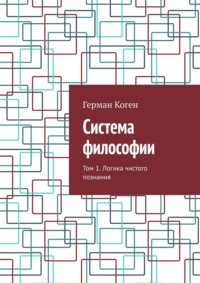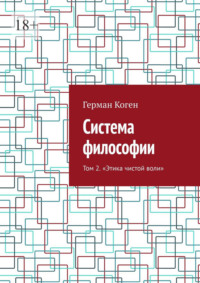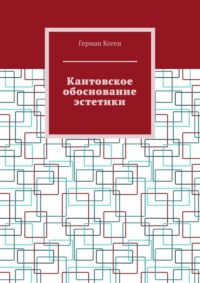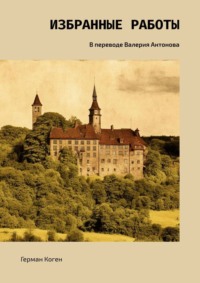Полная версия
Этика Канта
Последнее, конечно, в определённой степени соответствует действительности. Этические предписания в основном остаются одинаковыми во всех мыслимых этических системах. Порядок в их взаимосвязи создаёт литературные различия, но материя закона от этого не изменяется ни на йоту. Можно даже поддаться искушению считать ничтожно малым и различие в этической оценке и систематическом допущении отдельных культурных благ; какие бы интересные отклонения одна система ни обнаруживала здесь по сравнению с другой – в смысле расходящихся оценок крайние школы отличаются друг от друга лишь незначительно; к тому же на подобные различия можно было бы основывать партии, но не философские школы.
Поэтому если какая-либо философская дисциплина, точнее, какое-либо её понимание, подтверждает слова Мендельсона, которые при одобрении популярной философии своего времени сводили спор школ к «словесному спору», то это как раз относится к данному взгляду на содержание и ценность этики. Конечно, утешительно, что основа нравственности при всех частных отклонениях остаётся неизменной, подобно природному объекту, не поддаваясь изменениям в ходе культуры и не будучи поколебленной психологическими толкованиями и метафизическими умствованиями; но для этики как систематической дисциплины философии, задуманной с такой исключительной задачей, этот факт означает не что иное, как её исключение из этого традиционного союза. Она должна перестать считаться философской дисциплиной, если не может подтвердить своё систематическое существование методологическим обновлением своего содержания. Метафизическая мудрость, способная раскрыть психологическую уловку, которой пользуется «вещь в себе» мира в так называемом нравственном побуждении, не в состоянии придать этим разоблачениям значение этики как особой философской дисциплины.
В этой неизбежной последовательности и заключается настоящая опасность того заманчивого взгляда, будто кантовская этика учит «вынужден», содержанию безусловных законов принуждения. «Вынужден» не отпугивает, ибо различие между «должен» и гражданскими установлениями, как, впрочем, и самим Декалогом, к которому Шопенгауэр так усердно пытается свести кантовскую мораль, вряд ли может быть затемнено. Но то, что содержание, к которому обязывают, если и не устарело, то по крайней мере избито и потому не несёт на себе печати своеобразной ценности самой по себе; и что это тождественное содержание – единственное для всякой этики, – вот что уничтожает значение научной задачи; вот что создаёт видимость бесплодного, хотя и добросовестного усилия.
Кажется, есть выход, позволяющий избежать этого вывода, который затрагивает всякую этику. Хотя, можно подумать, содержание нравственного в целом остаётся тем же, всё же имеет значение и создаёт разницу, коренится ли основа этого неизменного ценного в глубине человеческой природы, в потусторонних определениях или же в высшем единстве с природным. И именно в этом и состоит подлинная задача этики: расшифровать основу нравственного в человеческой душе из хаоса её стремлений. Даже в этой расшифровке этики, возможно, мало отличаются друг от друга; Шопенгауэр, во всяком случае, ссылается в подтверждение своего открытия, что сострадание – основной мотив нравственного, на ряд мыслителей из самых отдалённых культурных эпох. Но здесь тонкое различие в толковании душевного процесса могло бы оправдать аппарат специального исследования, и в этом, собственно, и заключается самостоятельность этических систем.
Несомненно, эта точка зрения создаёт различие, а возможно, даже ценное основание для классификации. Или, может быть, безразлично, помещает ли Платон основу нравственного в реальность, независимую от человеческих индивидов, прочность которой он иллюстрирует превосходной степенью – как высшее знание (μέγιστον μάθημα), – или же её ищут в сплетении человеческих чувств и развивают из души человека, в чём многие видят главную заслугу Аристотеля?
И уж конечно, не безразлично, стремится ли кто-то раскрыть основание нравственного в так называемой сущности человека или же относит его к непостижимому в своём происхождении установлению природы, чьи регулярные особенности, чьи правила и следует признать нравственными законами. На этом различии Гербарт основывает право связать свою практическую философию с эстетикой. Подобно тому как теория музыки, в малой степени представленная в генерал-басе, является «единственным образцом подлинной эстетики» [4], так и для него она же служит образцом теории практического разума.
Впрочем, оставим здесь нерассмотренным, как удаётся этому гербартовскому исследованию оправдать включение этики в учение о вкусе и какое значение для нашего вопроса имеет различение, согласно которому для самого суждения вкуса, которое должна изображать практическая философия, совершенно безразлично объяснение, «которое, так сказать, раскрывает механизм суждения» [5]. Даже если мы признаем отличие этой задачи от других трактовок этической проблемы, всё же следует возразить, что и эта этика, поскольку она описывает воление, сопровождаемое непроизвольным одобрением или неудовольствием, в этом описании чистых суждений вкуса, во-первых, даёт лишь описание душевных событий, душевных актов; а во-вторых, такое включение намеренно устраняет своеобразие этического суждения.
Здесь можно даже отвлечься от характера правила: «Может быть, судят вовсе не по какому-либо правилу, а само суждение есть событие, которое при одинаковых обстоятельствах всегда происходит одинаковым образом в судящем» [6]. Описание этих событий и остаётся задачей этой эстетической теории практического разума. В этом более широком смысле и гербартовская этика охватывается суждением:
Везде, где основные понятия этического выводятся из опыта о человеке, этика мыслится с точки зрения антропологии как специальная проблема психологии.
Против понимания этого основополагающего определения, однако, снова возникает ряд важных вопросов.
С чем же в мире может иметь дело любая мыслимая этика, как не с объяснением нравственных явлений в жизни человека, в истории народов? Могут ли основные нравственные понятия быть чем-то иным, кроме как абстракциями этих опытов?
Если, исходя из этого, иное понимание этики кажется немыслимым, то тем более мы должны с самого начала предостеречь себя от дезориентирующего мнения, будто мы не считаем формирование человеческого мира согласно и сообразно этическим понятиям важнейшей задачей самой этики. В действительности, идеальный образ мудреца, да и вообще морализаторство отдельного индивида – не есть основная проблема этики; но этизация всей человеческой культуры.
Методически та проблема, которая характеризует стоицизм, также не является исходной. Платон уже высказал это: в государствах справедливость распознаётся лучше, чем в отдельном человеке, у которого лишь затем можно искать сходство с большим. Из формирования более крупных этических целых – народа, даже человечества – возникает лишь затем малое этос отдельного человека. Но различие определяется не величиной, а степенью единства. Более сложное целое народа, вернее, государства и через него – человеческого рода, образует более строгое единство для осуществления этических понятий, чем изменчивое единство индивида. Чем больше массы, чем шире сферы воздействия, тем незначительнее случайности, тем без исключений закон. Так, астрономия – образец достоверности, а не физиология.
Но как индивидуальное этическое лучше познаётся из более строгого, точного единства целого, в которое оно включено, так и прагматическая задача этики увенчается успехом лишь тогда, когда всестороннее использование и методическая переработка всего историко-экономического и физико-антропологического материала подготовят почву для этических идей. С большим правом, чем Фихте мог требовать для своего времени, мы, видя нынешнее развитие общественных дел, можем сказать: было бы скорее признаком узости ума, чем тупости рассудка, если бы тот, кто сегодня размышляет об этических отношениях, не сделал осуществление этических идей в сообществах народов, в идеальном единстве человеческого рода высшей и своеобразной задачей своей науки.
Если в двусмысленном утверждении, что отдельный человек есть продукт целого, есть доля неправды, то она заключается в том, что далеко не в достаточной мере осознаётся, в какой степени неопределённое индивидуальное, сам индивид, лишь в свете всеобщего, своего собственного всеобщего и под порождающей мыслью целого нравственных существ обретает реальность, свободную от фразеологического значения. Именно эту истину и должна раскрыть наша разработка этики, тем не менее дистанцирующаяся от антропологического подхода.
Почему же тогда мы уклоняемся от этой задачи, если она всё же является задачей этики?
Ответ дать легко, но его обоснование, кажется, труднее. Недостаточно сказать: проблема этизации человеческого мира есть задача прикладной этики; ибо чистая этика как таковая должна быть применимой; она должна нести в себе нормы применения. Но если реализация этической идеи, если реальность этого целого должна иметь точный, а не метафорический смысл, то вопрос реальности, способ реальности нравственного должен быть предварительно методически исследован: в этом смысле обоснования нравственного наша задача здесь – изложение и обсуждение основания, которое Кант дал чистой этике. Лишь на почве нравственного может возвыситься понятие человеческого.
Так, неуклонно на основе чистой этики возвышается прикладная этика, и она будет и должна утверждать себя. Определения чистой этики изначально относятся к человеку; долженствование направлено на человека и его воление. – Но независимо от этой неизбежной связи, задача нравственного, понятие и задача чистой этики должны быть методически осмыслены и определены.
Здесь, конечно, вновь возникает вышеупомянутый вопрос. В этом объяснении кроется непреодолимый парадокс. Трудно избавиться от мысли, что та иная задача обозначает методическую иллюзию, ложный начальный пункт. Какой же смысл должна иметь эта чистая этика нравственного, если не содержание человеческого? Как вообще может быть мыслима этика, которая не имела бы своего основания и материала в опыте человеческого существа? И какой понятийный материал может составить это содержание, если он не абстрагирован из той сферы, на которую якобы должен быть впоследствии применён?
Этот вопрос, впрочем, уже возникал в связи с априорностью учения об опыте. И там это искомое, требуемое a priori представляли себе как откровение свыше – тогда как то, что придаёт опыту необходимость и всеобщность, можно узнать лишь от него самого. Кантовский поворот, что опыт не может гарантировать всеобщности, ни необходимости, возмущает всякое разумное мышление; лишь опыт может установить, что в нём безусловно всеобще и что в нём необходимо.
Однако выяснилось, что это мнение было грубым, в принципе препятствующим всякому методическому прогрессу недоразумением, каковым оно и остаётся камнем преткновения. Именно понятие опыта – а именно опыта как науки, как математического естествознания – ставилось под вопрос при этом требовании: наполненное содержанием найденного a priori, оно может принять и удовлетворить эту претензию эмпиристского мышления; углублённое условиями самого себя, опыт, конечно, позволяет распознать в себе те критерии всеобщего и необходимого; но обнаружить, раскрыть, обосновать их – есть и остаётся задачей чистой критики познания, которая сводит материальное содержание опыта к его методическим основаниям.
Возможно, удастся доказать и для этики такой основательный смысл чистого. Возможно, это долженствование обретёт тем более энергичную связь с человеческим волением, чем дальше оно отстоит от него в своём происхождении. Возможно, эмпирический человек в том, что существует через него и с ним, будет тем увереннее и прозрачнее связан тем, что он должен. Как a priori, не происходящее из опыта, именно поэтому наполняет его и порождает в его новом понятии, так и неизвестный вид субъекта, который должен, мог бы обрести живейшую связь с эмпирическим субъектом, который желает. Как та трансцендентальная метода обоснования a priori совершила ни много ни мало как установление объективной реальности; и возвестила ни много ни мало как впервые её обоснование: так и чистая этика могла бы обосновать реальность нравственного более глубоким образом, чем абстракция опытного нравственного способна это гарантировать.
Прежде всего, здесь важно ухватить мысль, что интерес к доказательству нравственного в человеческой природе и выведению морали из неё – гораздо меньший, вторичный по сравнению с интересом, который мы проявляем к вопросу о реальности, о достоверности нравственных идей. Тот интерес вторичен; ибо лишь чтобы удостовериться в реальности этих идей, мы ищем в человеческом существе их корень и чувственное бытие. Если бы мы могли иным способом удостовериться в этой реальности, человеческий способ явленности нравственного отнюдь не оставался бы неукоснительным требованием. Да и религиозное мышление ищет основание нравственного в этом прометеевском возвышении человеческого. Стало быть, не только эмпирически человеческое есть то, в чём всякое нравственное размышление укореняется.
Снова скажут: но какой иной вид бытия можно помыслить для реальности нравственного, если отвлечься от мифа и религии? Во всяком случае, видно, что именно реальность есть то, на чём держится интерес нравственного мышления, и что не психологический интерес к толкованию внутренних голосов и к описанию толчков и подталкиваний в человеческом хозяйстве составляет, определяет и исчерпывает проблему.
Но не будем принимать и это подозрение в немыслимость иного вида реальности как самоочевидную истину. Разве реальность нравственного в истории людей – столь неоспоримый, столь бесспорный факт? Разве недостаточно систем, которые столь основательно умеют истолковывать нравственное из психологического опыта, что оно без остатка растворяется в этом истолковании, – а тем самым лишается всякой реальности?
Как скептицизм учения об опыте вынудил новое понятие опыта, так и моральный скептицизм в своих многообразных психологических обличьях мог бы привести и для этики к открытию чистого, априорного, подлинно обосновывающего нравственный опыт, и установить в этом чистом своего рода реальность нравственных понятий.
Против этого ожидания, однако, возникает возражение, которое имеет большой вес и труднее разрешимо, чем прежние сомнения.
Аналогия реальности опыта не может успокоить наши сомнения в мыслимости чистого для этики, если это чистое должно быть обнаружено в реальности, совершенно чуждой человеческой природе. То теоретическое a priori должно было быть независимым от опыта; но оно было выявлено в более глубоком понятии опыта, в опыте как науке. Таким образом, оно в возвышенном смысле означало необходимость того, что есть, а именно того, что имеет силу в наличных познаниях; и дело было лишь в том, чтобы в этих познаниях распознать более глубокие формы, основания опыта, и вывести понятие опыта из них, из этих познаний, породить из составляющих их элементов.
Однако, поскольку этика имеет задачу учить тому, что должно быть, она должна учить тому, чего нет. Её задача, следовательно, – превзойти сущее опыта (ибо за его пределами нет бытия, к которому могли бы относиться наши понятия опыта), а значит – превзойти опыт. В практической философии речь идёт не о том, чтобы «принимать основания того, что происходит, но законы того, что должно происходить, даже если это никогда не происходит» [7]. Формулировка этической задачи как учения о долженствовании должна, таким образом, прежде всего ответить на вопрос:
Какая логика ведёт к такой этике?
Трансцендентальная логика ограничила наше знание «плодоносным батосом опыта» [8]. Это «долженствование» выходит за границы опыта. Пусть оно явно отличается от принуждения «нуждания», пусть содержание этого долженствования будет превосходно продумано, пусть о понятии, обозначающем зависимость, дается самое возвышенное объяснение, пусть, наконец, окончательная применимость к человеческой воле будет убедительно доказана: какое право, несмотря на всё это, дает нам трансцендентальный метод, чтобы отважиться на этот первый шаг за пределы области опыта? В этом долженствовании выражено, что этика не учит тому, что в действительности воляется, что в опыте действительно происходит.
Кант, правда, однажды говорит, что разум в своем моральном употреблении также содержит «принципы возможности опыта, а именно таких действий, которые согласно нравственным предписаниям могли бы встречаться в истории людей» [9]. Но в этой иронической, сатирической переработке основного понятия учения об опыте для сомнительного морального употребления разума эта возможность претерпела не меньшее превращение, чем то, что она обменяла свое синтетическое значение, действительное в опыте, на аналитическое, которое, как известно, для познания, применяющего понятия к предметам, ничего не делает. Там принципы возможности означают условия, которые делают опыт возможным; в этой же метафоре – нормы таких действий, которые не невозможны, но имеют мысленное существование в понятии этих норм. Эта метафора, следовательно, содержит не меньшую угрозу, чем мысль: принципы морали всецело принадлежат к «плодоносным полям онтологии», их истина состоит в истинности аналитических суждений! Но если моральное употребление разума имеет в виду только принципы возможности (аналитически) возможного, а не (синтетически) действительного опыта, тогда как теоретическое познание в математике и чистом естествознании имеет такую основу и почву, то ему недостает фундамента реальности.
Отсюда возникает альтернатива: либо Кант предпринял свою этику без связи со своим учением об опыте и в явном противоречии с ним, либо она строится на основе этого учения.
Если бы дело обстояло согласно первому варианту, то кантовской этике недоставало бы трансцендентального обоснования. Ибо тогда кантовская этика получила бы свой фундамент в неразрешенном противоречии с областью опыта, и у нее тогда не было бы априорного основания. Ведь только трансцендентальное обоснование может укрепить и подтвердить основу познания a priori.
Мы не называем фундаментом то, что обычно выставляется как основание морали: мотив, из которого с искусством выводятся учения о нравах или культурные представления о нравственном могут быть правдоподобно обоснованы; над такого рода мотивами Кант не раз и достаточно язвительно насмехался. На почве учения об опыте следует определить место, которое открыто для первоначального поселения моральных познаний или может быть завоевано. Почва так называемого опыта должна уступить место области учения об опыте.
Если же, напротив, окажется, что учение об опыте не исключает учения о нравах, учения о долженствовании, то обоснование могло бы начать свою работу.
Однако при этом последнем варианте содержатся две более узкие возможности:
Либо учение об опыте оставляет для учения о нравах место, которое оно не заполняет своими средствами, не способно привести к опытному существованию своими познаниями: тогда основание этики – пустое место, место, которое учение об опыте предоставляет учению о нравах для произвольной застройки. Обоснование тогда преимущественно негативное: оно состоит в доказательстве, что учение об опыте не имеет ничего против него возразить; и на основе этой гарантии этика затем по собственному плану изобретает свои понятия и самостоятельно осуществляет свою собственную организацию.
Либо учение об опыте показывает, что его собственные следствия ведут к этике; что реальность в его пределах, его предпосылках, его основаниях делает необходимым понятие другого рода реальности, который опирается на те же предпосылки, коренится в тех же методологических условиях.
Почему же тогда оно уклоняется от установления этой этической реальности?
Возможно, потому что ей не присущи все условия, от которых зависит опытная реальность. Тогда было бы показано, что учение об опыте не просто оставляет этику открытой, но, хотя и не может ее подтвердить, тем не менее требует ее. И обоснование в этом случае имело бы солидный трансцендентальный смысл: не возводить собственное здание на основании самого учения об опыте, но на собственном основании возвести новую постройку, однако согласно законам и методам этой фундаментальной дисциплины, то есть строго следовать руководящей нити трансцендентального метода; также и в определении тех понятий, которые свойственны этике, если и не выводить право собственности из учения об опыте, то по крайней мере согласовать его с ним.
Мы намерены показать, что первый вариант исключен; и что из двух вторых верен второй: что учение об опыте не только не устраняет возможность этики и не просто оставляет ее открытой, но требует ее.
Отвергая антропологический способ обоснования, мы понимаем задачу обоснования в строгом смысле, который отличает трансцендентальный метод, и в двойном требовании: во-первых, узаконить основание через учение об опыте, во-вторых, исследовать понятийные материалы согласно этому методу; таким образом, осуществить систематический вывод этических положений в форме критико-познавательного обоснования.
Соответственно, обоснование будет содержать два раздела. Первый, касающийся основания, будет иметь задачу кратко изложить.
Часть I. Результаты учения об опыте в их отношении к возможности этики.
Если суждение по этому вопросу должно стать уверенным и твердым, то необходимо ясно и спокойно обозреть ту сферу, в которой действуют основоположения трансцендентальной аналитики, а также четко удерживать в поле зрения те точки приложения, на которые направлены усилия трансцендентальной диалектики. Только на этом пути откровенного противопоставления взаимных притязаний может решиться вопрос, достигает ли Кант какого-либо примирения между двумя видами применения разума путем взаимного смягчения их, казалось бы, противоречащих друг другу принципов, или же этика сохраняет свою значимость наряду и вместе с неослабленными следствиями трансцендентального идеализма как эмпирического реализма.
Это первая часть нашей задачи, которая завершается доказательством того, что реальность опыта требует своего дополнения и находит свою границу в значимости идей, указывающих на иной вид реальности – царство должного.
Лишь после этого доказательства становится возможной
Часть II. Изложение нравственного закона,
которая прежде всего должна начаться с рассмотрения вопроса о том, какую долю реальности можно приписать этому должному; а именно, в каком смысле содержание должного не может быть выведено из опыта.
После того как установлено ограниченное значение синтетического познания нравственного, обоснование должно быть продолжено таким образом, чтобы чистый волен был оправдан с точки зрения критики познания, то есть трансцендентально, раскрыт его аналитическое содержание и определена сфера его значимости.
На этом задача трансцендентального обоснования завершается. Однако всякое критико-познавательное исследование имеет целью не внушить нам сомнение в чувственном устройстве мира или привести нас в отчаяние, а, напротив, показать, что глаз укрепляется микроскопом, а чувственная реальность расширяется математикой.
Точно так же чистый волен не был бы чистым, не имел бы характера критико-познавательной абстракции, если бы из него не мог быть объяснен эмпирический волен с определенной задачей, если бы он не мог быть применен к такому волению. Для ангелов критическая философия не трудится над созданием этики.
Смысл и ценность такого обоснования, соответственно, должны быть изложены в третьей части. Но лишь после того – и только после того – как содержание этики с методической абстракцией (то есть не так, как если бы можно было действительно забыть о человеке) установлено в отношении эмпирического человека и его истории, только тогда возникает оправданное требование доказать
Часть III. Применение нравственного закона к психологической природе человека.
Эмпирический человек – не просто факт опыта, а продукт психологической интерпретации. Это обстоятельство отличает данную часть нашей задачи от двух предыдущих. Там речь идет о критико-познавательных рассуждениях, обусловливающих обоснование, здесь же мы не можем избежать психологических размышлений.
Очевидно, какое изменение претерпевает обоснование кантовской этики, поскольку понятие долга исключается из обосновывающей части и переносится в психологический раздел, посвященный применению. Тем самым другой затрудняющий понимание кантовской этики момент – представление о радикальном зле – ставится в правильный свет и в ту связь, в которой оно возникло.
Также и возражение, которое всегда вызывали постулаты, не обходится молчанием, но, возможно, устраняется тем, что они помещаются за пределами собственного обоснования: именно для того, чтобы испытать их безупречный характер и, во всяком случае, не вызывающую сомнений задачу в тех применениях, которые на них выпадают. Этика в своем основании должна быть от них независима; вопрос о том, могут ли они быть к ней присоединены, решает обоснованная этика.